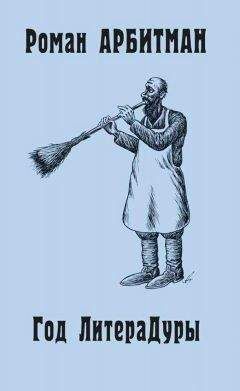Это я к тому, что персонажи повестей Тюрина и Щеголева обитают отнюдь не на Марсе.
1995
Геннадий Прашкевич. Адское пламя (Комментарий к неизданной Антологии). Журнал «Проза Сибири»
Если на время забыть, что автор этого документального повествования – писатель-фантаст, и поверить ему на слово, мы с вами избежали большой беды. В 1990 году в ташкентском издательстве им. Гафура Гуляма должна была выйти приличным тиражом огромная двухтомная антология советской фантастики 20—40-х годов. Она была уже анонсирована, едва ли не сверстана. Уже было известно, что том первый будет называться «Гибель шахмат», а том второй – «Адское пламя». Рациональных причин невыхода двухтомника, кажется, не имелось: именно в начале 90-х страна (еще СССР) переживала тот крайний и блаженный период своей истории, когда цензура уже отступила, а книжный бум еще не закончился. В это время под грифом «фантастика» можно было выпустить телефонный справочник города Кологрива или настольный календарь за позапрошлый год – и книгу бы немедля смели с прилавков. Издавая вышеназванную антологию, можно было бы заработать неплохие деньги, попутно сэкономив на гонорарах (к тому моменту почти все авторы, кроме долгожителя А. Палея, скончались). Да и дело было вроде бы архиполезное – извлечение из архивной пыли никому ныне не известных произведений забытых авторов. Так сказать, восстановление исторической справедливости.
Однако двухтомник все-таки не вышел. Какой-то песочек попал в шестеренку издательства в городе Ташкенте, и готовый проект рассыпался. Аллах сжалился и упас. Повезло. Публикуемый ныне комментарий – обломок неосуществленного издания, грозное напоминание о том, что нас ожидало.
Позволим себе небольшой исторический экскурс. К середине 70-х будущее отечественной фантастики многим стало казаться проблематичным. Сами фантасты с угрюмым ожесточением оспаривали любой критический намек на кризис, но это была лишь хорошая мина при плохой игре. У Инстанции сложился наконец стереотип советской фантастики (много техники, радости труда, наших преимуществ и достижений), и под этот стереотип начали деятельно подравнивать тружеников НФ. Тех, кто не желал подравниваться (например Стругацких), тогдашние Прокрусты переставали печатать. Умер Иван Ефремов. Вознесся Александр Казанцев. У издательства «Молодая гвардия» поменялось руководство, и многие авторы вдруг сделались не подходящими «по профилю». Творцов аккуратно поделили на белокурых друзей и рыжих врагов. Читатели бросились подписывать «тонкие» научно-популярные журналы, где только и могло проскользнуть в рубрике «НФ» что-нибудь живое, но все реже, реже... В эти же годы увидели свет две более-менее полные библиографии фантастики минувших лет – работы Виталия Бугрова (в двух выпусках новосибирского альманаха «Собеседник») и Бориса Ляпунова (в приложении к монографии А. Бритикова, а затем уже – в виде отдельной брошюры). И тогда-то неожиданно выяснилось, что у отечественной фантастики было свое прошлое. Что помимо Александра Грина и Александра Беляева в 20-е и 30-е существовали неведомые Вивиан Итин, Владимир Орловский, Яков Окунев, Виктор Гончаров, Владимир Эфф, Валерий Язвицкий и прочие, прочие. Что кроме классических «Аэлиты» или «Земли Санникова» имели место романы, повести и рассказы с заманчивыми названиями: «Бунт атомов», «Гибель шахмат», «Аппарат Джона Инглиса», «Радио-мозг», «Страна Гонгури», «Расстрелянная Земля», «Изобретатели идитола», «Лучи смерти», «Пылающие бездны» – десятки, если не сотни наименований. Все это, оказывается, было рассыпано до канувшим в Лету «Мирам приключений», «Всемирным следопытам», исчезнувшим в нетях издательствам «Прибой», «ЗИФ», «ГИЗ», «Космос», «Пролетарий» и иже с ними. Подавляющее большинство названных произведений массовому читателю было недоступно, однако читатель мог по крайней мере утешаться фактом их существования – где-нибудь в закромах Ленинской библиотеки, в пыльных подшивках, в спецхранах на худой конец. Возникало ощущение целого спрятанного материка: неизведанной территории, где росли яркие экзотические цветы, выгодно отличающиеся от чахлой икебаны 70-х и 80-х. В пору, когда тучи над будущим жанра сгущались, могли хотя бы утешать мечты о крепких тылах и ржавых сундуках Билли Бонса, доверху наполненных потаенными шедеврами. «Господин Бибабо», «Следующий мир», «Конец здравого смысла», «Универсальные лучи», «Переговоры с Марсом» – завораживала уже одна музыка заголовков, предвкушались всевозможные необычайности. Уничижительные отзывы в редких литературоведческих публикациях («деформированность научно-фантастического элемента», «пошловатый тон», «грубые просчеты и наивный вымысел» и т. п.) лишь придавали блеска оскорбляемому литературному наследию; все равно поношения воспринимались с точностью до наоборот. Бессмысленно было даже намекать, что две огромные гири гражданина Корейко могли вдруг оказаться чугунными: читатель был твердо уверен, что они золотые. А какими еще они могли быть?
Геннадий Прашкевич, задумав свою обширную антологию и добыв для нее вожделенные тексты, покусился на самое святое – на мечту. Из публикуемого комментария можно понять, как стремительно менялся замысел составителя. Пока в руках не было еще самих произведений, двухтомник воображался средоточием увлекательного чтива. Стоило же составителю добыть у коллекционеров эти редчайшие книжечки и подшивки, как предполагаемая антология неизбежно превращалась в кунсткамеру, в паноптикум. Вынося за скобки Булгакова, Замятина, Ал. Толстого и еще двух-трех и без того известных персонажей Истории мировой литературы, составитель остается один на один с фантастами, забытыми совершенно справедливо и не способными выдумать ничего, кроме завлекательного названия. Великое Прошлое Советской Фантастики оказывается мифом. Оно еще кое-как годится в качестве материала для монографий – остроумных («Падчерица эпохи» Кира Булычева) либо академически-серьезных («История советской фантастики» Рустама Каца), однако обойтись без посредников, выставить товар лицом невозможно, не разрушая миф. Что делать, если нуднейшие утопии, серые конструктивистские фантазии или растянутые до размеров повестей фельетоны (про пузатых капиталистов, уничтожаемых в финале новым секретным оружием) представляют интерес лишь для предельно узкого круга – нескольких историков, филологов и психоаналитиков? Цитаты из произведений, приводимые Г. Прашкевичем, подтверждают самые худшие опасения. Антология, выйди она в свет, представила бы прошлое отечественной НФ во всей его неприглядности. Критикам можно было бы не верить, над интерпретаторами – посмеиваться. Голый текст был бы неоспорим.
К счастью, самого худшего не произошло. Большинство вещей, не переизданных тогда, в 1990-м, и поныне остается под спудом. Миф накренился, но устоял. В настоящее время, к счастью, издательства предпочитают не связываться с републикациями НФ, а потому есть надежда, что этот миф будет жить и дальше. Хотя бы еще лет пятьдесят, а там его уж пусть спасают другие.
1996
Слова стратегического значения
Евгений Лукин. Словесники. Журнал «Если»
Доброе слово и кошке приятно. Впрочем, без всякого «и» – только кошке. Остальным в высшей степени наплевать: мели, Емеля, твоя неделя. Ко второй сигнальной системе у нас испокон веку относились с пренебрежением, считая ее барской блажью вроде кружевной салфеточки за обедом. Красиво-то красиво, однако надежнее обходиться рукавом.
Жест был весомей любого проявления хлипкого разговорного жанра. Из двух тургеневских персонажей, Герасима и Рудина, первый традиционно считался положительным героем (несмотря на убийство собачки), а второй – скорее отрицательным. Глухонемой дворник был Человеком Дела, болтливый интеллигент – всего-навсего Человеком Слова. Литературная дуэль между Словом и Делом, как и положено, завершалась в пользу последнего. Рудин падал, сраженный пулей, Герасим же молча отправлялся в деревню набираться вечных и незыблемых ценностей тяжкого крестьянского труда.
Интеллигенции было неловко. Пока она объяснялась в любви к великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку, люди бессловесного труда ковали за окном что-то железное и поливали слезой многочисленные нивы. Все попытки героев Некрасова засеять те же нивы словами (разумными, добрыми, вечными) оказывались плодотворными примерно в той же степени, в какой был успешен посев Буратининых пяти золотых: кудрявое ветвистое дерево из сложноподчиненных предложений с золотыми яблочками мудрых силлогизмов так и не проклюнулось из почвы. Правда, в некоторых местах все же пророс колючий кустарник, в переплетении ветвей которого смутно угадывалось не то «гордо реет Буревестник», не то «взять все да и поделить». Столь мизерный урожай доброго и вечного вызвал, как известно, раскол среди литераторов. Лев Николаевич впал в неслыханную простоту, стал за плуг и принялся засеивать извилины нив уже не словами, но непосредственно пшеницей – за что впоследствии и был объявлен классиком русской литературы. Николай же Степанович, напротив, возмечтал о тех давних и глубоко дореволюционных временах, когда «Солнце останавливали Словом, Словом разрушали города». За что, собственно, и был расстрелян Людьми Дела, грамоте не обученными.