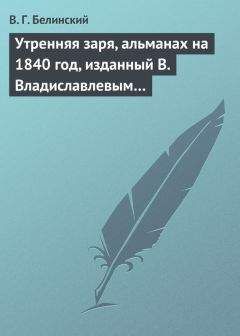Сказанного нами достаточно, чтоб вопрос «есть ли у нас литература?» не казался странным. По крайней мере отныне все возгласы о богатстве нашей литературы, о ее равенстве со всеми европейскими литературами, даже о превосходстве над ними должны считаться или болтовнёю, или бредом тщеславия, помешавшегося на своем мнимом достоинстве. Известное и даже значительное число превосходных художественных произведений не может составить литературы: литература есть нечто целое, индивидуальное; части ее сочленены между собою органически; самые разнообразные явления ее находятся во взаимном друг с другом соотношении. Несмотря на всю неизмеримость пространства, отделяющего Вальтера Скотта от какого-нибудь Диккенса или Марриета, вы видите в них нечто общее, и это общее есть – британская национальность. Между Вальтером Скоттом с одной стороны, и Диккенсом и Марриетом с другой – сколько примечательных талантов, большею частию совершенно неизвестных у нас на поприще романистики! Подле громадного гения Байрона блестят могучие и роскошные таланты Томаса Мура, Уордсуорта, Сутея, Коупера и многих других. И у нас, назад тому двадцать лет, вышел было могучий атлет с дружиною замечательных, хотя и ставших от него на неизмеримом расстоянии талантов{26}; но теперь, кажется, литературной деятельности суждено проявляться в отдельных лицах, одиноко действующих и с остальным пишущим миром не имеющих никакого соотношения, ничего общего… С 1832 по 1836 год писал Гоголь, и есть ли у нас до сих пор хоть что-нибудь, что, напоминая его, отличалось бы примечательным талантом? Теперь Лермонтов и… никто, совершенно никто, если исключить два-три таланта, гораздо прежде его явившиеся и продолжающие развиваться в своей собственной и уже определившейся сфере. И посмотрите, как сонно тянется, а не развивается то немногое, совокупность чего называется у нас литературою! Умер Пушкин – и мы до сих пор еще не имеем полного собрания его сочинений, из которых некоторые еще нигде и не были напечатаны!.. В 1832 году Гоголь издал свои «Вечера на хуторе», в 1835 свои «Арабески» и «Миргород», в 1836 «Ревизора»; потом напечатал в «Современнике» сцену из комедии, «Коляску» и «Нос», да с тех пор – ни слова… Лермонтов еще напечатал только один роман и небольшую книжку стихотворений. Так ли проявлялась первая деятельность у европейских писателей? Из наших лучших писателей Пушкин написал едва ли не больше всех; но все написанное им, собранное в одну книгу, едва ли сравнится (разумеется, величиною книги) только с поэмами Вальтера Скотта, собранными в одну книгу, с поэмами, которые составляют его второе, не столь важное, как романы, право на славу и которые, несмотря на все высокое поэтическое свое достоинство, принадлежат к второстепенным или третьестепенным сокровищам музея национальной поэзии; эти поэмы представляют собою уже роскошь, избыток необъятно богатой литературы… Но если Пушкин делал слишком мало в сравнении с неистощимыми средствами своего плодовитого гения, – нет сомнения, что он чрезвычайно много сделал бы, если б преждевременная смерть вместе с жизнию не прекратила и его деятельности; оставшиеся после смерти его произведения показывают, что гений его еще только вступил в апогею своей деятельности и что, действуй он еще хоть десять лет – компактное издание его сочинений не уступило бы в объеме этим огромным, тяжелым книгам, в два столбца мелкой печати, в которые собраны творения Шекспира, Байрона, Гёте и Шиллера{27}. Но другие?.. Воля ваша, у нас авторство – какая-то тяжелая, медленная и напряженная работа! Вот, например, Лажечников: какой богатый талант, какая страстная натура, какое горячее сердце, какая благородная, возвышенная душа отпечатлевается в его романах! Сколько пользы русскому обществу могут приносить они, внося в его жизнь идеальные элементы, побеждая гуманическим началом прозаическую черствость его нравов! И что же? – в десять лет только три романа!.. И добро бы еще это было вследствие неуспеха, холодного приема со стороны публики первых романов Лажечникова: нет, первые издания «Новика» и «Ледяного дома» были не раскуплены, а расхватаны, и скоро потребовались вторые издания обоих романов. Что ни напиши теперь Лажечников – все будет иметь большой успех… Между молодыми людьми некоторые обнаружили или обнаруживают, в большей или меньшей степени, значительные таланты в повествовательном роде, и что же? – Написав повесть и оживив ею на месяц нашу мертвую литературу или издав две-три повести отдельною книжкою, каждый из них уже и сам не знает, когда он напишет еще повесть или издаст еще книжку… Одна из тех повестей, которые у каждого английского, немецкого и особенно французского нувеллиста являются вдруг десятками, наполняют собою и журналы, и альманахи, и отдельно издаваемые книги, – у нас геркулесовский подвиг, великое дело, – и, наконец, мы дошли до того, что журнал, который не хочет пятнать своих чистых страниц дюжинными произведениями посредственности, видит невозможность представлять своим читателям в каждой из двенадцати книжек своих по две или даже по одной оригинальной повести… тогда как французские журналы и даже газеты набиты оригинальными повестями{28}…
Но если мы взглянем на другую сторону предмета, то увидим, что и самая посредственность у нас бесплодна, посредственность, которая, приходясь по плечу толпе, успевала иногда приобретать успехи, свойственные только таланту и гению. Иной «сочинитель» приобрел себе своими суздальскими картинами нравов, выдаваемыми им за романы, и известность и «денег малую толику», что же? – вы думаете, увидев выгодную для себя отрасль промышленности в романопечении, он напек целые десятки и сотни романов, которые ему так легко печь благодаря обилию мусорных материалов и топорной обделке? нет, он напек их всего на все какой-нибудь пяток в продолжение целых пятнадцати лет… Другой всего на все только пару{29}… Перед всеми ими посчастливилось одному «Милорду английскому», который вот уж лет шестьдесят каждый год выходит новым изданием, к несказанному утешению своих читателей и почитателей… Иной с плеча отмахивает драмы и водевили; все дивятся легкости, с какою он их стряпает; а поверьте, – дело выйдет, что он в три года настряпал не больше двух десятков… чего же? таких тощих и таких бездарных вещиц, которые ниже всякой возможной посредственности и которых целую сотню легко наготовить в один месяц{30}. О, литература!..
Заведите с кем угодно спор о причинах этой бесплодности, – вы всегда услышите одно и то же: производители обвиняют потребителей, а публика авторов и сочинителей. Та и другая сторона совершенно справедливы в своих доказательствах, равно как совершенно справедлив и тот, кто сказал бы, что некому и не на кого жаловаться, потому что и то и другое, то есть и наши авторы и наша литературная публика, – существования проблематические, а не положительные, что-то такое, о чем нельзя сказать ни того, чтоб его совершенно не было, ни того, чтоб оно и было действительно. Следовательно, причина не в авторах и не в публике, потому что они сами только результаты другой, более общей причины. Многие обвиняли нашу литературу в том, что она не сближается с обществом, а рисует какие-то, нигде не существующие образы, выдавая их за портреты общества:
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы и слышать не хотим{31}, —
сказал поэт, и сказал великую правду, хотя и не разрешил этим вопроса. В XI книжке «Отечественных записок» прошлого года напечатана статья почтенного титулярного советника в отставке Плакуна Горюнова{32}: «Записки для моего праправнука о русской литературе». В ней автор очень основательно, оригинально и сильно обвиняет нашу литературу в ее постоянной стрельбе мимо цели, когда она берется за изображение общества, особенно высшего; но в то же время прибавляет, что наши гостиные – род Китая, царство апатии. Это напоминает великое слово Пушкина, что «сущность гостиной состоит в том, что в ней все стараются быть ничтожными с приличием и достоинством». Где ж вина литературы, если она не находит для своих портретов оригинальных лиц, с отпечатком внутренней жизни? Литература должна быть выражением жизни общества, и общество ей, а не она обществу дает жизнь. Нападая на нее, не надо быть и несправедливым к ней: посмотрите, как иногда крепко впивается она в общество, словно дитя всасывается в грудь своей матери, – и ее ли вина, если с первого слабого усилия она высасывает все молоко из этой бесплодной груди… Недостаток внутренней жизни, недостаток жизненного содержания, отсутствие миросозерцания – вот причина… Где нет внутренних, духовных интересов, внутренней, сокровенной игры и переливов жизни, где все поглощено внешнею, материальною жизнию, – там нет почвы для литературы, нет соков для питания; там остается только, как делывали Ломоносов, Петров, Херасков и Державин, писать громкие оды или, как это было лет десять назад, писать только элегии – эти жалобные вопли разочарования; эти грустные звуки жажды жизни, которая не находит себе ни удовлетворения, ни исхода и томится среди окружающей ее внутренней безжизненности…