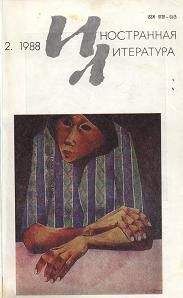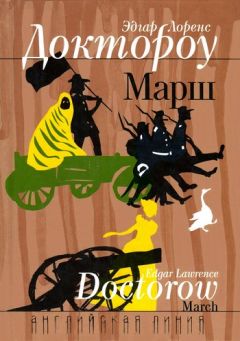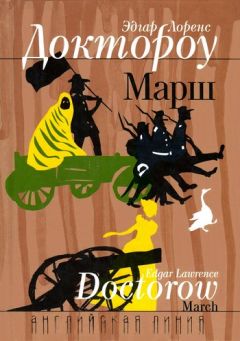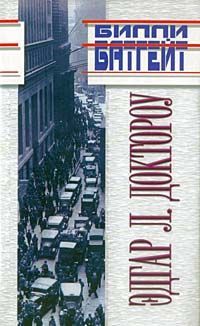Как определенного рода «документация» этого «духа времени» романы Ирвинга и впрямь любопытны. Взять хотя бы «Инструкции для сидроварильни». Нам рассказывают историю, охватывающую почти все текущее столетие. Место действия — сиротский приют в штате Мэн по соседству с фруктовой плантацией, где существует строгий распорядок для сезонников: правила пожарной охраны, правила нравственности, трезвости, личной гигиены и еще много правил, одно разумнее другого. Приют пополняется с завидной регулярностью через известный срок по окончании сбора яблок. У работниц весьма шаткие понятия о добродетели.
Желающим немедленно освободиться от нежеланного потомства тоже следует направить стопы в приют, хотя аборты запрещены законом. Но доктор Ларч, глава заведения, сам явился на свет лишь оттого, что мамаша не сумела своевременно отыскать подпольного коновала. Он просто святой, доктор Ларч, он лучше всех способен войти в положение своих пациенток, как ни претит его принципам необходимость держать в приюте операционную. Что же, принципы принципами, а жизнь жизнью. Есть превосходные правила, и есть не считающаяся с ними реальность.
Пикантный сюжетец: святой, которому приходится стать грешником именно для того, чтобы отвечать своему назначению избавителя. Ирвинг, не надо пояснять, использует эту «перевернутую» ситуацию, стараясь выжать из нее максимум юмора — «черного», «висельного», анекдотического, беззлобного, ядовитого, только не того, который в родстве с сатирой. Автор никого и ничего не высмеивает, он просто описывает. Клиентура Ларча — это десятки жизненных историй, одна нелепее другой, однако не из таких ли трагифарсовых нелепостей и состоит доподлинная жизнь?
Читателю Ирвинга невозможно сделать иной вывод. Он, читатель, как-то и не замечает, что за стенами приюта происходят бурные события: две мировые войны, а между ними — «бум» 20-х годов и «депрессия» 30-х, потом маккартистская «охота на ведьм», потом и «молодежная революция»… Что бы в мире ни случалось, какие бы его ни сотрясали конфликты и взрывы, все непременно закончится операционной или палатой для завернутых в пеленки сирот. Печальный, но неотменяемый закон бытия!
Можно восторгаться искусством пародийной имитации, с каким Ирвинг вводит в повествование мотивы «Оливера Твиста», «Джейн Эйр» и других знаменитых «сиротских» романов, можно оценить неожиданное ироническое обыгрывание мифологемы яблока, напоминающей о грехе Адама и Евы. Можно возмущаться натуралистичностью многих страниц, которые были бы уместнее в учебнике акушерства, а не в художественном произведении. В конце концов, все это не самое существенное.
Куда существеннее, что при всей, скажем так, изысканности фабулы «Инструкции для сидроварильни» представляют собой хорошо «документированную» картину типового сознания сегодняшней будничной Америки. Ирвинг воспроизвел все важнейшие приметы такого сознания: его смутную, но стойкую убежденность в том, что мир безусловно абсурден, его нарастающую циничность в отношении всевозможных «правил», соблюдаемых только внешне, и то, о чем пишет в своей статье Перси, — отчужденность от «ценностных форм человеческой деятельности», восприятие эроса как единственной реальной формы общения.
Центральный персонаж Ирвинга — врач, но профессиональные навыки никак не помогают ему диагностировать болезни, которые не по его прямой специальности, потому что этими болезнями затронута область нравственной жизни, сфера идеалов и ценностей. К этой сфере автор просто не позволяет прикоснуться своим персонажам, потому что тогда пришлось бы писать совсем другой роман.
Пришлось бы касаться реальной почвы, на которой растет засвидетельствованное Ирвингом умонастроение. Пришлось бы признать духовные недуги тем, чем они и являются, а не отделываться от этой необходимости беззаботным осмеиванием любых попыток ответить на вопрос, «что значит быть личностью, живущей в США в XX веке». Тот самый вопрос, который, по убеждению Перси, так до сих пор и остается без ответа в американской прозе.
Другое дело, достаточен ли в качестве ответа только диагноз, пусть самый точный и честный. Для Доктороу, во всяком случае, это не так. На его взгляд, сейчас такое время, когда под сомнением оказалась «сама идея художественности», если произведение, хотя бы и блистательно написанное, не дает какого-то практического отзвука. Обычная литература с ее традиционными устремлениями, похоже, утрачивает право существовать, поскольку слишком велик «уровень общественного страдания или опасности».
Еще несколько лет назад подобные мысли могли бы удивить, а то и показаться данью вульгаризаторству. Сегодня все иначе. «Не могу читать литературу…»— так названа глава в недавней книжке известного нашего прозаика Алеся Адамовича «Литература и проблемы века» (1986). Ход мысли тут в общем-то тот же самый: художественность теперь недостаточна, даже разумея под ней не просто совершенство изобразительной системы, а высокий объем содержания. Последние десятилетия века обнажили такие пласты коллизий, охватывающих род человеческий как целое, что насущной становится потребность в какой-то совершенно новой литературе. Нужна «сверхлитература», обладающая способностью прямого выхода на животрепещущую проблематику, которая сегодня касается непосредственно каждого жителя Земли.
Представляется, что дело тут не в том лишь, что искусство наших дней столкнулось с конфликтами, которые действительно требуют нового художественного арсенала. Дело и в неудовлетворенности общим состоянием литературы, теряющей былое моральное воздействие на читателя.
Все более настойчиво эта неудовлетворенность сегодня чувствуется во многих оценках, которые исходят не от критики, а от самих писателей — совсем друг на друга не похожих, живущих в разных социальных условиях и воспитанных на традициях, которые подчас противоположны. Уход Толстого из литературы теперь воспринимается не так, как прежде: не жертва, принесенная во имя проповедничества, но акт, говорящий о высочайшей ответственности за писательское слово, за его действенность. Полностью согласиться с такой интерпретацией нельзя, но до чего же она характерна в свете нынешних духовных забот. И до чего характерна перекличка столь, кажется, несопоставимых прозаиков, как Адамович и Доктороу, когда они говорят о духе современной литературы, до чего характерен сам этот скепсис относительно ее преобладающих веяний.
Здесь есть несомненная запальчивость, категоричность, и скепсис, если присмотреться к реальному положению дела, вряд ли так уж оправдан, — по крайней мере, он не должен бы становиться столь последовательным. Но тем не менее он необходим. Как стимул движения. Как залог поиска.
Да и не самопроизвольно же он зарождается, не силою инерции поддерживается. Литература и вправду дает для него достаточно веские поводы. Американская — во всяком случае.
Как и Перси, Доктороу почти не подкрепляет свои обобщения конкретными литературными фактами, но их наберется с избытком. Вот хотя бы.
«Версия Роджера», роман Джона Апдайка, опубликованный в 1986 году. Пока что последний его роман. Вполне вероятно, что к моменту выхода этого номера журнала последним он уже не будет. Апдайк пишет так много, что возникает опасение, не чрезмерна ли подобная продуктивность, не идет ли она в ущерб качеству.
Законное опасение. «Версия Роджера» даже по стилистике несравнима ни с «Кентавром», ни с «Фермой», ни с книгами о Кролике, принесшими автору мировую известность. Однозначные характеры, монотонный повествовательный ритм, клишированные слова — полно, Апдайк ли это? Где его виртуозность, разветвленные метафоры, тонкая ирония, подтекст, неожиданные трагические кульминации — все то, что выдавало почерк мастера?
Осталась, пожалуй, только обычная для Апдайка насмешливость, обманывающая ожидания читателя, который настроился бы слишком серьезно отнестись к описываемым событиям и лицам. Однако насмешливость не выручает. Персонажи заняты бесконечными спорами о Боге: один из героев, профессиональный теолог, питает неподобающие богослову сомнения, другой, блистательный математик, полон фанатизма, странного для человека, постоянно соприкасающегося с точным знанием. Допуская существование Бога, что следует подразумевать под самим понятием: отвлеченную концепцию, реальность, присутствующую в обыденной жизни идею откровения и искупления? Имеющим представление о трудах швейцарского философа-протестанта Карла Барта, оказавших большое влияние на Апдайка, вникнуть в эту полемику несложно, тем, кто Барта не читал, она даст новую информацию, но ведь роман — не теологический диспут, как бы живо он ни велся.
Апдайку, понятно, разъяснять это незачем. Он разнообразит рассказ будничными картинами, воссоздавая атмосферу университетского городка неподалеку от Бостона и частный быт своих героев. И вот здесь-то обнаруживается, что все дискуссии вокруг по-своему серьезных категорий для Апдайка лишь повод, чтобы воплотить достаточно банальную мысль о коренном расхождении провозглашаемых принципов с реальной этической ориентацией, которую избирают для себя персонажи. Для всех них правомочны как бы две «версии» жизни, решительно друг с другом не совпадающие: в одной «версии» они мыслители, озабоченные вопросами фундаментальной важности, в другой — ничтожные гедонисты, которым лишь бы «с жизни взять возможну дань», а после того хоть потоп. И эта вторая «версия» занимает Апдайка куда больше, иначе не загромождали бы его роман подробнейшие описания супружеских измен, диких сексуальных фантазий и чувственных: томлений.