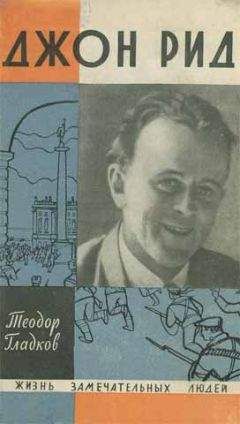Позвольте мне рассказать вам о том, что я увидел в Патерсоне, и вы сами решите, которая из борющихся сторон действовала «по-анархистски» и вразрез с «американскими идеалами».
Шесть часов утра. Моросит дождь. Мрачные и холодные улицы Патерсона безлюдны. Но вот появилась группа — около двух десятков полицейских. Они медленно брели по улице с дубинками под мышкой. Мы обогнали их и направились к фабричному району. Здесь нам стали попадаться идущие туда же рабочие; воротники их пальто были подняты, руки засунуты в карманы.
Мы вышли на длинную улицу, по одну сторону которой тянулись здания шелкоткацких фабрик, а по другую — деревянные многоквартирные дома. Люди высовывались из окон и дверей домов, весело смеясь и непринужденно болтая, как в праздничный день после завтрака. В их поведении не чувствовалось ни ожидания какой-либо беды, ни напряженности или страха. Тротуары были почти безлюдны, только у фабричных зданий медленно прогуливались взад и вперед под дождем человек пятьдесят. Они ходили парами: мужчины, молодые парни, кое-где мужчина с женщиной.
С наступлением дня потеплело. Многие вышли из домов и стали расхаживать по улице, собираясь небольшими группами на перекрестках. Люди энергично жестикулировали, но разговаривали вполголоса, часто посматривая на перекрестки улиц.
Неожиданно появился полицейский, размахивая дубинкой.
«А-а-а…» — тихо прокатилось по толпе.
Шесть мужчин укрылись от дождя под навесом у входа в пивную. «Убирайтесь! Живо!» — гаркнул полицейский, надвигаясь на них. Мужчины спокойно повиновались. «Освободите улицу! Немедленно расходитесь по домам! Не стойте здесь!» Все молча уступили полицейскому дорогу, но вновь сгрудились, как только он удалился прочь. Появились еще полицейские. Грубо, с бранью расталкивали они народ, но это не имело успеха. Никто им не отвечал. Злые, небритые, с мутными глазами, эти полисмены за девять недель непрекращающейся борьбы со стачечниками, очевидно, дошли до полного изнеможения.
На тротуаре у фабричных зданий линия пикетчиков достигла примерно четырехсот человек. Несколько полицейских грубо расталкивали плечом стоящих, выискивая, к чему бы придраться. Прошел рабочий с жестяным ведерком под охраной двух сыщиков. «Вон! Вон отсюда!» — раздалось с разных сторон. Двое молодых итальянцев, которые стояли, прислонившись к фабричной ограде, встретили его смешками и угрозой, как это делают в Ирландии: «Скэб, поди-ка сюда, я тебе голову оторву!» Полицейский грубо схватил парней за плечо. «Проваливайте к черту отсюда!» — закричал он, толкая их в угол, где стал бить их ногами. В толпе никто не издал ни звука, не шелохнулся.
Несколько далее по улице мы увидели, как толстый полицейский вдруг остановился перед молодой женщиной с зонтиком, стоявшей в пикете. «Какого черта вам-то здесь нужно? — рявкнул он. — Проклятье, убирайтесь домой!» — и он поднес дубинку прямо к ее рту. «Я не пойду домой! — пронзительно закричала она со сверкающими от гнева глазами. — У, ты, толстая морда!»
Численность пикетчиков все росла и росла. Собирались молча. Группами, парами забастовщики патрулировали вдоль тротуаров. Никто уже не смеялся. В глазах у всех горела ненависть. Ведь забастовщики в большинстве своем были пылкие итальянцы, а полицейские — самые жестокие головорезы, которые вот уже девять недель оскорбляли и избивали их. Я еще удивлялся терпению бастующих.
Дождь полил сильнее. Я попросил у одного мужчины разрешения постоять на крыльце его дома. Перед крыльцом стоял полицейский. Звали его, как я узнал позже, Маккормак. Мне пришлось обойти его, чтобы подняться на ступеньки.
Вдруг он обернулся и выпалил, обращаясь к владельцу дома: «Все эти парни живут в этом доме?» Мужчина указал на себя и еще трех забастовщиков, а затем отрицательно мотнул головой, указывая на меня.
«Тогда убирайся отсюда к дьяволу!» — заорал полицейский, указывая на меня дубинкой.
«Этот джентльмен разрешил мне стоять здесь. Дом принадлежит ему».
«Ничего не значит, делай, что я тебе приказываю. Убирайся отсюда, да поскорее, черт возьми!»
«И не подумаю!»
Тогда он подскочил ко мне, схватил меня за руку и силой вытолкнул на тротуар. Другой полицейский схватил меня за другую руку, и они дали мне пинка.
«Ну теперь убирайся с этой улицы», — заявил полицейский офицер Маккормак.
«Не желаю уходить ни с этой, ни с какой другой улицы. Если я нарушил закон — арестуйте меня».
Маккормак был ужасно смущен моим требованием. Он не собирался меня арестовывать и заявил об этом с множеством проклятий.
«Ваш номер я приметил, — заявил я спокойно, как только мог, — не скажете ли вы мне теперь ваше имя?»
«А я раскусил твой номер, — проревел он. — Ты арестован».
Он положил мне руку на плечо и повел по улице.
Полицейский был явно недоволен тем, что ему пришлось меня арестовать, так как не мог предъявить мне никакого обвинения. Я ровным счетом ничего не сделал. Он чувствовал, что должен заставить меня сказать хоть что-нибудь, что можно было бы выдать за нарушение закона. Чтобы добиться этого, он проклинал меня, осыпая ругательствами и непристойными словами, грозил своей дубинкой и цедил сквозь зубы: «Ты… болван!.. Хотел бы я выбить из тебя дубинкой всю дурь!»
На все эти угрозы я отвечал веселыми шутками.
Двое других полицейских пришли ему на помощь и осыпали меня новыми ругательствами. Но вскоре я заметил, что они повторяются, и немедленно сказал им об этом. «Стоило мне проделывать весь путь до Патерсона, чтобы взять верх над каким-то фараоном!» — заявил я. Эврика! Наконец-то они уличили меня в преступлении. Когда я был доставлен к судье, это мое замечание было поставлено мне в вину.
Меня втиснули в тюремный автомобиль и повезли под непрекращающийся звон колокольчика вдоль линии пикета. Мы ехали под крики: «Вон, фараоны!» — и иронические приветствия. Люди с воодушевлением махали нам руками.
После допроса в главном управлении меня поместили в арестантскую камеру. Камера была около четырех футов в ширину и семи футов в длину, а потолок был всего на фут выше человеческого роста. В ней помещались железная койка, подвешенная на цепях к боковой стенке, и страшно грязная открытая параша в углу. В подобные камеры три дня назад бросили большую партию пикетчиков. Их сажали по восемь, девять человек в камеру и держали без пищи и воды в течение 22 часов. Среди них была молодая девушка лет семнадцати, которая, идя во главе процессии рабочих, подошла вплотную к сержанту полиции и предложила ему арестовать их всех.
Несмотря на ужасные условия, усталость и жажду, эти заключенные не переставали бодро перебрасываться словами и петь весь день и ночь напролет.
Примерно через час наружная дверь с лязгом отворилась, и полицейские втолкнули в коридор около сорока пикетчиков, смеявшихся и перебрасывавшихся шутками. Их заперли в камеры, по двое в каждую. Вскоре поднялся адский шум. Заключенные приподнимали тяжелые железные койки и с грохотом ударяли ими о металлические стены. Это напоминало стрельбу целой батареи пушек.
«Да здравствует ИРМ!» — выкрикнул кто-то. И сейчас же все в один голос откликнулись: «Ура!»
«Да здравствует главарь бездельников!» (По адресу начальника полиции Бимсона.)
«Долой!» — заорали сорок глоток. В этом крике чувствовалась такая ненависть, какой я никогда раньше не замечал в этих людях.
«К черту майора Макбрайда!»
«Доло-о-о-й!» В железной коробке тюрьмы звуки разносились очень гулко, и этот крик был ужасен и грозен.
«Да здравствует Хейвуд[8]! Да здравствует единый большой союз! Ура! Да здравствует стачка! К черту полицию! Долой! Долой! Ура!»
«Музыку! Музыку!» — кричали итальянцы. В ответ на это какой-то голос запел, подражая гитаре: «Трень-брень, трень-брень», — а другой, сочный тенор, затянул первый куплет итало-английской песенки, написанной и положенной на музыку одним из участников забастовки. Песенка предназначалась для собраний забастовщиков. Запевала обращался к хору:
«Нравится ли вам мисс Флинн?»[9]
Хор: «Да! Да! Да! Да!»
«Нравится ли вам майор Макбрайд?»
Хор: «Нет! Нет! Нет! Нет!»
«Ура! Да здравствует ИРМ!»
Хор: «Ура! Ура! Ура!»
«Бис! Бис!» — закричали все, хлопая в ладоши, гремя койками. Появился полицейский офицер и потребовал прекратить шум. Его встретили криками «долой» и насмешливыми возгласами. Кто-то попросил воды. Полицейский налил полную оловянную кружку и поднес ее к двери камеры. Вдруг из-за двери просунулась чья-то рука и вышибла кружку из его рук. «Скэб! Убийца!» — пронзительно закричали отовсюду. Полицейский ретировался. Шум продолжался.
Приближалось время судебного разбирательства у главного судьи города. Но вдруг разнесся слух, что в окружной тюрьме нет больше свободных мест. Словно в подтверждение этому неожиданно появились полицейские и стали отворять двери камер. Забастовщики с радостными возгласами покинули тюрьму. Их голоса доносились до меня с улицы, откуда освобожденные, смешавшись с ожидавшей их у ворот тюрьмы толпой, направились обратно на линию пикетов.