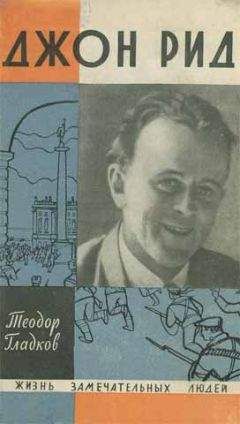Ко мне подошел молодой итальянец с газетой и показал подряд три статьи. Одна была под заголовком «Американская федерация труда надеется на следующей неделе прекратить забастовку», другая — «Виктор Берже заявил: «Я — член Американской федерации труда и не люблю организацию ИРМ в Патерсоне» и третья — «Социалисты Нью-Йорка отказываются помогать забастовщикам Патерсона».
«Я не понимаю, объясните мне, — спрашивал он, глядя на меня жалобно. — Я — социалист, я состою в профсоюзе. Я бастую вместе с ИРМ. Социалистическая партия говорит: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» АФТ говорит: «Все рабочие, сплотитесь!» Каждая из этих обеих организаций говорит: «Я защищаю рабочий класс». Хорошо, говорю я, я и есть рабочий класс. Я объединяюсь, я бастую. Тогда они мне говорят: «Нет, ты не должен бастовать». Что это? Я не понимаю. Объясните мне».
Но я не мог ему ничего объяснить. Все, что я мог сказать ему, это то, что значительная часть Социалистической партии и Американской федерации труда забыла о классовой борьбе и, как видно, увлеклась забавной игрой по всем правилам капиталистического общества под названием «Чур, чур, кто имеет право голоса!»
Когда срок моего заключения окончился, я попрощался со всеми этими добрыми, непосредственными, славными людьми, облагороженными участием в высоком деле. Именно они являлись душой стачки, а не Билл Хейвуд, Гэрли Флинн или какая-либо другая личность. И если они даже потеряют всех своих руководителей, из их рядов выйдут новые вожди, так как сами массы поднялись на борьбу, и стачка будет продолжаться. Не забывайте о них! Двенадцать лет они терпели поражение в стачечной борьбе, двенадцать долгих лет разочарований и неисчислимых страданий. Они не должны опять проиграть, они не могут проиграть.
Когда я проходил через переднюю общую камеру, все вновь столпились вокруг меня, теребили за рукав, пожимали руку, дружески, горячо, доверчиво и красноречиво. Хейвуд был взят на поруки. «Вы выходите на волю, — твердили они приветливо. — Вот хорошо. Мы рады, что вы уходите. Скоро и мы будем свободны и обязательно вернемся в пикеты».
1913 год.
В Йермо нет ничего, кроме песчаной пустыни, простирающейся на десятки километров. Кое-где она поросла чахлым мескито и карликовым кактусом. На западе ее окаймляют зубцы рыжевато-коричневых гор, а на восток пустынная равнина тянется вплоть до колеблющейся в потоках воздуха линии горизонта. От всего городка уцелели только помятый водяной бак с жалкими остатками грязной соленой воды, разрушенная железнодорожная станция, которую два года назад снаряды из пушки Ороско разнесли на куски, да одна запасная железнодорожная колея. На сорок миль вокруг нет ни воды, ни травы для скота. Весной в течение трех месяцев подряд дуют резкие знойные ветры и взметают вокруг клубы желтой пыли.
На единственной линии дороги, проходящей через сердце пустыни, остановилось десять огромных составов поездов, от которых ночью тянулись на север, насколько достигает глаз, столбы пламени, а днем — полосы черного дыма. Вокруг поездов в зарослях колючего кустарника, прямо под открытым небом, расположились лагерем девять тысяч человек. Неподалеку от каждого воина паслась его лошадь, привязанная к кусту мескито. Тут же на кусте висели его неразлучный плащ-серапе и вялились на солнце красные ломти мяса. Из пятидесяти вагонов выгружали лошадей и мулов. Оборванный, покрытый пылью и потом солдат нырял в вагон со скотом, прямо в гущу мелькающих копыт, вскакивал верхом на лошадь и с пронзительным криком глубоко вонзал ей шпоры в бока. Тогда испуганные животные начинали неистово бить о пол копытами. Затем какая-нибудь лошадь стремительно выскакивала — чаще всего задом наперед — через отворенную дверь, и вслед за ней из вагона вырывалась лавина лошадей и мулов. Поднявшись после падения, почуяв свежий воздух, животные в панике мчались, с храпом широко раздувая ноздри. Тогда солдаты, подстерегавшие их, выстраивались в широкий круг в клубах пыли, превращаясь в вакеро (пастухов), набрасывали на них лассо, и животные одно за другим начинали в ужасе кружиться на одном месте. Офицеры, ординарцы, генералы со штабными офицерами и солдаты охотились с недоуздками за своими лошадьми и носились по всему лагерю в страшнейшей сумятице. Брыкающихся мулов впрягали в зарядные ящики. Прибывшие с последними поездами солдаты бродили в поисках своей бригады. Где-то впереди вдоль пути несколько человек стреляли из винтовок, охотясь за кроликами. С крыш товарных вагонов и с платформ глядели вниз сотни солдатских жен, расположившиеся здесь с целым роем полуголых ребятишек. Женщины пронзительно кричали, обращаясь за советом и расспрашивая всех и каждого, не случилось ли им видеть Хуана Монероса, Хесуса Эрнандеса или еще кого-то другого, мужа какой-либо из них… Один солдат, волоча по земле винтовку, пробирался вдоль дороги, громко сетуя, что вот уже два дня, как ему нечего есть, и он никак не может отыскать свою жену, которая пекла ему tortillas[10]. Он высказывал предположение, что она покинула его и ушла с кем-нибудь из другой бригады. Женщины на крыше вагонов восклицали: «О господи!» — и пожимали плечами. Затем они протягивали ему tortillas, правда трехдневной давности, и, заклиная его любовью к богоматери Гваделупы, просили дать им сигаретку. Шумная толпа грязных людей осаждала паровоз нашего поезда, громко требуя воды. Когда машинист с револьвером в руке оттеснил их от паровоза и объяснил, что это специальный состав с водой и ее хватит на всех, они разошлись и без всякой цели разбрелись в разные стороны, но их место заняли другие. Вокруг двенадцати огромных цистерн с водой толпы людей и животных сражались за место у небольших кранов, из которых непрерывно текла вода. Над всем этим пространством в горячем, неподвижном воздухе застыло огромное облако густой пыли, смешавшейся с черным дымом паровозов. Облако было длиной семь миль и в милю шириной, и вид его поверг в ужас аванпосты федеральных войск, расположившиеся за пятьдесят миль до этого места, за холмами Мапими.
Когда Вилья[11] выступил из Чиуауа в Торреон, он перерезал телеграфные линии сообщения с севером, приостановил железнодорожное движение до Хуареса и под страхом смерти запретил передавать в Соединенные Штаты известие о его выступлении. Он хотел застать федеральные войска[12] врасплох. Это ему прекрасно удалось. Даже в штабе Вильи никто не знал, когда намечено покинуть Чиуауа. Армия пробыла там так долго, что мы все были уверены, что она застрянет там еще на две недели. И вдруг в субботу утром, проснувшись, мы убедились, что телеграфная и железнодорожная линии перерезаны и три огромных состава с войсками бригад «Конеалес-Ортега» ушли. Бригада «Сарагоса» покинула этот пункт день спустя, отряды самого Вильи — на следующее утро после нее. Передвигаясь с обычной для него быстротой, Вилья через день сосредоточил всю свою армию в Йермо, а федеральные войска даже и не знали, что он покинул Чиуауа.
Вокруг установленного в развалинах станции переносного полевого телеграфа собралась толпа. Внутри щелкал телеграфный аппарат. Солдаты и офицеры наперебой то и дело заглядывали в окна и дверь, и каждый раз, когда телеграфист кричал что-то по-испански, в ответ раздавался дружный взрыв хохота. По-видимому, телеграфист случайно подключился к линии, не разрушенной федеральными войсками и соединенной с линией военного телеграфа федералистов Мапими — Торреон.
«Слушайте! — закричал связист. — Полковник Аргмедо, командующий cabecillos colorados[13] в Мапими, передает телеграмму генералу Веласко в Торреон. Он сообщает, что видит дым и большое облако пыли в северном направлении, и полагает, что какие-то отряды мятежников движутся к югу от Эскалопа».
Настала ночь. Небо было облачное, и резкий ветер начал поднимать столбы пыли. Над растянувшимися на мили составами горели огни костров, разожженных солдатскими женами на крышах товарных вагонов. Далеко по степи, так далеко, что в конце концов они стали казаться маленькими точками с булавочную головку, рассыпались бивуачные костры, едва приметные в облаке густой пыли. Поднявшаяся песчаная буря совершенно скрыла нас от глаз часовых федеральных войск. «Даже бог, — заметил майор Лейва, — даже бог на стороне Франсиско Вилья».
В самый разгар песчаной бури на открытой платформе, прицепленной перед нашим вагоном, расположилось несколько солдат. Они лежали у костров, положив голову на колени женам, и пели «Кукарачу», в которой в сотне сатирических стихов рассказывалось о том, что бы сделали конституционалисты[14], если бы отобрали Хуарес и Чиуауа у Меркадо и Ороско. Сквозь порывы ветра слышался многоголосый грозный ропот толпы, и время от времени часовые выкрикивали тонким голосом: «Кто идет?» Затем ответ: «Chiapas!»[15] — «Что за люди?» — «Chaco». В ночи раздавались зловеще звучавшие гудки десяти паровозов, подававших друг другу сигналы через определенные промежутки времени.