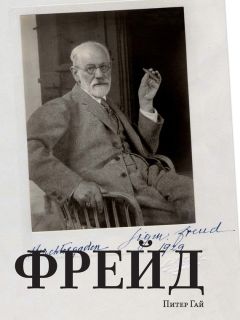Порывы, оживившие стремление Фрейда занять высокое положение в обществе, из которых нельзя исключить потребность отомстить и реабилитировать себя, были далеко не очевидны. Поэтому мотивы, заставившие его выбрать медицину, и курс, которым он следовал, определившись с выбором, выявить очень трудно. Свидетельство Фрейда, будучи фактически точным, требует толкования и объяснения. Он пишет о внутренних конфликтах, но благородно упрощает их разрешение. «Под сильным влиянием своего друга и старшего товарища по гимназии, сделавшегося затем политиком, и я хотел изучать юриспруденцию, чтобы посвятить себя общественной деятельности». Этим школьным другом был Генрих Браун, впоследствии ставший редактором и одним из самых известных политиков социал-демократического толка. Далее Сигизмунд добавляет: «Между тем меня сильно привлекало актуальное в те годы учение Дарвина, ибо казалось, что оно способно дать ключ к постижению мира, и еще я помню, что решение поступать на медицинский факультет я принял после того, как незадолго до экзаменов на аттестат зрелости услышал популярную лекцию профессора Карла Брюля, посвященную прекрасному фрагменту Гёте «Природа».
В этой истории есть признаки мифотворчества или, по крайней мере, избыточного упрощения. Карл Бернхард Брюль, известный специалист по сравнительной анатомии и профессор зоотомии Венского университета, был популярным лектором, умевшим увлечь слушателей. Фрагмент, который повлиял на выбор Фрейда, представляет собой эмоциональный и восторженный гимн, восхваляющий эротизированную природу как всеобъемлющую, вечно обновляющуюся мать, которая способна задушить в своих объятиях. Да, он мог стать последним толчком к принятию решения, которое уже зрело в сознании Фрейда. Тот сам не раз об этом говорил. Однако сие ни в коем случае не было внезапным откровением. Слишком многое должно было произойти, чтобы отрывок из произведения Гёте приобрел для Фрейда такое значение. И вообще, это был не Гёте…
Мы не знаем точный ход мыслей Фрейда, но в середине марта 1873 года он сообщил своему другу Эмилю Флюсу – тоном, который сам Сигизмунд скромно назвал пророческим, – что может преподнести кое-какие новости, возможно самые важные в его жалкой жизни. Он и далее выражался туманно и уклончиво, в несвойственной ему манере: «Я не хочу говорить о чем-то еще неокончательном, несвершившемся, чтобы потом не пришлось брать свои слова обратно». Наконец, 1 мая Фрейд переборол себя и решился внести ясность. «Если я приподниму завесу тайны, ты не будешь разочарован? – спрашивал он Флюса. – Теперь представь: я решил посвятить себя естественным наукам». Фрейд отвергает карьеру юриста, но, сохраняя легкомысленный тон, не отступает от юридического лексикона, словно намекает на сохранившуюся тягу к профессии, от которой отказался: «Я буду исследовать документы природы тысячелетней давности и, возможно, лично подслушаю ее вечный судебный процесс, поделюсь своими победами с каждым, кто пожелает узнать». Эта краткая остроумная фраза намекает на серьезность конфликтов, которые были преодолены или, скорее, решительно отброшены. В августе того же года Фрейд вложил в письмо к Зильберштейну отпечатанную визитную карточку с надписью: «Сигизмунд Фрейд / студ. юр.». Возможно, сие была шутка, но в ней виден намек на сожаления.
В 1923 году Фриц Виттельс, венский психиатр, который стал одним из первых независимых последователей Фрейда и его первым биографом, проницательно заметил, что утверждение Фрейда о том, какую роль сыграл фрагмент «Природа» в его жизни, похоже на защитную память, своего рода безобидное воспоминание, за мнимой ясностью которого скрывается некий более важный и не такой однозначный прошлый опыт. Образ матери, вызванный фрагментом, который прочитал Брюль, с обещанием любви и защиты, обволакивающей нежности и неиссякаемого источника пищи, мог показаться Фрейду, в то время впечатлительному юноше, привлекательным. Как бы то ни было, «Природа» упала на подготовленную почву.
Кроме того, крайне маловероятно, что предпочесть медицину юриспруденции помог откровенный и практичный совет отца: Фрейд не преминул письменно засвидетельствовать: «…мы были стеснены в средствах, но мой отец потребовал, чтобы, выбирая профессию, я следовал исключительно своим склонностям». Если же воспоминания о «Природе» Гёте представляли собой защитную, искаженную память, то скрывали они, скорее всего, не рациональные, а эмоциональные мотивы. Выбрав медицину по собственной воле, Фрейд тем не менее отмечал в своем «Жизнеописании» – в эссе, где автобиография вплетена в историю психоаналитического движения: «Никакой особой любви к профессии и деятельности врача я тогда не испытывал, как, впрочем, не испытываю ее и сегодня. Скорее мною руководила своего рода жажда знаний…» Это одно из самых важных высказываний биографического характера, когда-либо опубликованных Фрейдом. Впоследствии психоаналитик Зигмунд Фрейд укажет на сексуальное любопытство юношей как на истинный источник стремления к научному исследованию, поэтому вполне логично рассматривать эпизод в родительской спальне, когда ему было семь или восемь лет, как откровенное и довольно грубое проявление такого любопытства, впоследствии реализовавшегося в научных исследованиях.
Изучение медицины сулило не только сублимацию примитивной тяги к знаниям, но и психологическое вознаграждение. Юношей, как впоследствии отметил Фрейд, он еще не осознавал ценности наблюдений, которые предполагают сдержанность и объективность, для удовлетворения своего ненасытного любопытства. Незадолго до женитьбы он сочинил для своей невесты короткий «автопортрет», в котором просматривается то же отсутствие холодной сдержанности: Фрейд чувствовал себя наследником «…всех страстей наших предков, когда они защищали свой храм». Бессильный, не способный выразить «жаркие страсти в стихах или прозе», он всегда «подавлял» себя. Когда много лет спустя биограф Фрейда Эрнест Джонс спросил, много ли философских трудов тот прочитал, мэтр ответил: «Очень мало. Будучи молодым человеком, я имел чрезмерное пристрастие к размышлению и безжалостно подавлял его». В последний год своей жизни Фрейд в том же духе рассуждал об определенной сдержанности перед лицом своей субъективной склонности чрезмерно поддаваться воображению и научной любознательности. Вне всяких сомнений, он считал важным не сдерживать свое научное воображение, особенно в годы исследований, но в его самооценке – в письмах, научных статьях и записанных беседах – проглядывают определенные опасения утонуть в трясине размышлений, а также сильное стремление к самоконтролю. На третьем курсе университета, в 1875 году, Фрейд все еще собирался получить степень доктора философии, специализируясь на философии и зоологии, но в конечном счете победила медицина, и его обращение к медицине – скрупулезной, дотошной, эмпирической и ответственной науке – было желанием не обнять любящую и удушающую мать-природу, а убежать от нее, или, по крайней мере, держать ее на расстоянии. Медицина была частью победы над собой.
Еще до окончания с отличием гимназии – в 1873 году – Фрейд понял, что из всей природы ему больше всего хочется понять природу человека. Его жажда знаний, как он заметил впоследствии, была направлена в большей степени на человеческие отношения, чем на естественно-научные предметы. Он еще в юности демонстрировал это свое отношение в письмах самым близким друзьям, которые наполнены откровенным любопытством и субъективными ощущениями. «Мне доставляет удовольствие, – писал Фрейд Эмилю Флюсу в 1872 году, когда ему было 16 лет, – осознавать прочность нитей, которыми переплетены случай и судьба вокруг всех нас». Несмотря на молодость, Фрейд уже пришел к выводу о крайней подозрительности только поверхностного общения. «Я заметил, – жаловался он Эдуарду Зильберштейну летом 1872-го, – что ты позволяешь мне узнавать лишь об отдельных происшествиях в твоей жизни, но совсем не делишься своими мыслями». Он уже стремился найти более глубокие откровения. Описывая международную выставку, которая проходила в Вене в 1873 году, Фрейд охарактеризовал ее как приятную и милую, но не увидел в ней ничего выдающегося. «Я не смог найти широкую, связную картину человеческой деятельности, подобно тому, как невозможно определить особенности ландшафта по гербарию». «Величие мира, – продолжал он, – основано на множестве возможностей, но, к несчастью, это не является прочной основой для нашего самопознания». Это слова прирожденного психоаналитика.
Двойственное отношение Фрейда к медицинской практике тем не менее не смогло ослабить его желание лечить людей или удовольствие от исцеления больных. В 1866 году, 10-летним школьником, он энергично проявлял свои гуманистические наклонности, умоляя учителей организовать кампанию по сбору бинтов для австрийских солдат, раненных на войне с Пруссией. Почти десятью годами позже, в сентябре 1875-го, уже проучившись два года на медицинском факультете, Фрейд признался Эдуарду Зильберштейну: «Теперь у меня не один идеал. К теоретическому прошлых лет прибавился практический. В прошлом году, когда меня спросили о самом большом желании, я ответил: лаборатория и свободное время или океанское судно и все необходимые для исследователя инструменты». Рассказывая о своих мечтах, Фрейд явно имел в виду Дарвина, которым он восхищался, и плодотворные годы, проведенные великим ученым на «Бигле». Впрочем, поиск научной истины был не единственным желанием Фрейда. «Теперь же, – продолжал он, – я думаю, что мне следовало бы ответить: большая больница и много денег, чтобы укротить некоторые из недугов, которые обрушиваются на наши тела, или вообще стереть их с лица земли». Это желание бороться с болезнями периодически прорывалось наружу. «Сегодня я пришел к пациенту, не зная, как проявить необходимые ему внимание и сочувствие, – писал он своей невесте в 1883 году. – Я был таким усталым и апатичным». Но, услышав жалобы больного, Фрейд тут же встряхнулся: «Я понял, что у меня есть дело и я тут нужен».