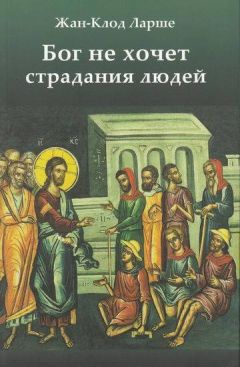Со стен на вас смотрят Полевой, Шолохов, Тихонов, Амосов, Федин, Маршак, Шукшин, Носов, Распутин, Белов, Бондарев, Проханов, Мартынов, Алексеев, Проскурин… Всех не назвать, но какое трепетное волнение рождается в душе, когда смотришь на портреты, выполненные Николаем Георгиевичем! В этих лицах — портрет самого Времени, в котором сияет, например, прекрасное лицо юной Ахмадулиной, умное печальное лицо Шукшина… упрямого Амосова …
Полная адекватность художественного воспроизведения тому главному, что угадываешь в человеке,— таково кредо фотомастера..
"Вот тут я настоящий казак",— весело и с подчеркнутым удовлетворением воскликнет, например, Шолохов, увидев свой портрет, сделанный Кочневым. Это снимок, который обошел все учебники литературы, выдержал все мыслимые и немыслимые тиражи, известен каждому из нас. А чего, кажется, в нем, этом портрете, казачьего? Ни вам шашки, ни коня… Характер, который дался-таки фотографу, несмотря на откровенное нежелание Михаила Александровича позировать и сниматься. Озадачивает при этом даже сам рассказ Кочнева об истории этого снимка: на все про все было не более 4 минут съемки, а этим четырем минутам, в свою очередь, предшествовали почти три года ежедневных звонков Николая Георгиевича в московскую квартиру Шолохова.
Снимок, одним словом, удался настолько, что спустя почти 8 лет Шолохов вдруг снова позвал фотографа. Теперь уже в Вешенскую… Тогда в собрании своих сочинений он снова наткнулся на портрет, который сделал Николай Георгиевич и который ему так нравился, и неожиданно для всех вдруг добродушно обронил: "Что ж я, не меняюсь, что ли?.. Пусть Кочнев еще приезжает..."
Снимки, сделанные тогда в Вешенской, особенно близки Николаю Георгиевичу. Среди них много пейзажей, встреч Шолохова со станичниками, семейные зарисовки. Чистота души делает человека прозорливым, и спустя много лет мы смотрим на эти снимки с любовью и нежностью, невольно пытаясь проникнуть в тайну великого писателя… Такого, действительно, казака на вид, такого, вроде, как все, и в чем-то — совершенно особенного…
Бессеребреник, негромкий и скромный человек, Кочнев снискал репутацию безупречного мастера. Всем, кто любит литературу, связан с литературой, известно его имя. Он всегда крайне необходим издателям, о нем начали писать, брать у него интервью, 250(!) публикаций только за последние годы… Его выставки время от времени очень презентабельно экспонируются, случается, что знакомства с ним настойчиво ищут литературоведы и критики из зарубежных стран…
Но как это ни странно, при более близком знакомстве с Николаем Георгиевичем чувствуешь, что все это: почести, слава, известность,— для него не более, чем эпизоды. Не стоит, мол, обольщаться, ничего особенного. Единственное, чем очень дорожит,— выставкой, которая сейчас развешена на ул. Воровского, 52, в Международном сообществе писательских союзов. Он считает ее для себя очень почетной, она ему дорога, потому что очень высока, в свою очередь, в глазах Н.Г.Кочнева репутация руководителей Союза: М.Шереметьева, Ю.Бондарева, С.Михалкова.
К прочим проявлениям внимания он, в основном, более чем сдержан и недоверчив: жизнь показала, как недолговечен и лжив может быть почет, который тебе выказывают. Взять хотя бы то, что власть сделала с ветеранами, посадив их на нищенскую пенсию. После салютов сорок пятого… после счастливых и полных надежд встреч "в шесть часов вечера после войны…"
Есть, увы, и примеры гораздо более конкретные. Он вскипает, когда вспоминает о них. Так, позорно скомпрометировавший себя в период распродажи собственности, принадлежащей Союзу писателей, Т.Пулатов в начале карьеры секретаря Союза был с Кочневым буквально шелковым, просил организовать на ул.Воровского, в здании Правления, выставку работ, обещал благодарность… Когда почти через год после того, как выставка была открыта, Николай Георгиевич столкнулся с Пулатовым в коридоре Правления и спросил : "Не пора ли рассчитаться с Кочневым? (на свой счет он оформил и разместил тогда в Союзе выставку почти из четырехсот работ), то услышал… площадной мат. И проклятия — чтоб они, старики, поскорее сдохли, а персонально Кочнев — еще и ослеп!
Но посмотрите на Кочнева: как и в начале своего творческого пути, он продолжает работать над пополнением портретной галереи писателей—россиян. И где теперь Пулатов, исключенный из творческого Союза? От переживаний Николай Георгиевич потерял зрение на один глаз. Но, как ни кощунственно это прозвучит, у этого обстоятельства есть в наше опрокинутое время свой плюс: пенсия по инвалидности. Его пенсия теперь — три тысячи рублей, и он понимает, что роптать на жизнь ему никак нельзя — многие получают деньги гораздо меньшие. Старики живут в бедности, не видеть этого народ не может. Как и у всех сегодня, настроение у Николая Георгиевича часто бывает подавленным... Очень унижает положение, пришедшее вместе с "реформами". Государство разворовано, народ оплеван. Возмущается сердце и против агрессии, направленной на молодежь. Увидел на днях девчонок-проституток, сбившихся стаей у химкинского кладбища в нетерпеливом ожидании, когда их разберут клиенты… Как дальше жить? В чем черпать силы? У Кочнева это два источника: работа и духовная близость с патриотами. "Я с патриотами,— говорит он, если его спросишь.— Народ ограблен, обманут и унижен. Страна, выстоявшая в страшной войне, повергнута…"
А мы не на митинге, мы всего лишь пьем чай в его мастерской. Три часа — время его обеда, и он каждый день приносит его с собой из дома — это экономнее… Вот она, судьба солдата-победителя. Люди, чьим личным мужеством и патриотизмом выкована Победа, сохранена независимость великой Державы, завоевано уважение к имени русского человека, отброшены и бесправны, существуют, в основном, на жалкую пенсию, которой не хватает… Да ни на что ее не хватает, и все это знают, а "новым русским" невдомек, что первое, с чего им следовало бы начать — поделиться своими деньгами с ветеранами. Чтобы меньше десяти тысяч, например, никто из поколения Кочнева не получал. "Так обокрали они нас, как они могут нам давать…"— удивляется Кочнев наивности предложения.
Знамение нам, что в свои 83 года Николай Георгиевич Кочнев здоров, привлекателен, работает, интересный и умный собеседник. Нам бы просто — любить его, восхищаться им. Но нет же, прежде остального, сильнее — жгуче стыдиться всем, глядя в глаза ветерана. "Много кругом предателей, вот почему все так..."— Николай Георгиевич роняет горестную фразу тихо, на вздохе, как бы про себя. Никакой публичности он не любит, и редкий случай, если говорит на эти темы с кем-то из самыми близкими… Надо, однако, думать, эту горечь он носит в своем сердце, и она жжет его и точит сильнее всякой болезни, случающейся в преклонном возрасте.
Годы и страшная война этого мужественного русского человека не преклонили — так жизнь гнет.
И может быть, самое важное, что мы сегодня можем сказать поколению Кочневых: ваша судьба должна заставить нас задуматься над тем, куда идет Россия, и какие ценности отстаивают те, кто, предав старших, корежит ее и ломает через колено…
«НИ ШАГУ НАЗАД, СИБИРЯКИ!»
Кавад Раш
6 мая 2002 0
19(442)
Date: 06-05-2002
Author: Кавад Раш
«НИ ШАГУ НАЗАД, СИБИРЯКИ!»
СИБИРСКИЕ ШТЫКИ
Может, никто так не прославил на Западе сибиряков, как Геббельс своими проклятиями. Нацистский "Мефистофель" мобилизовал все свои недюжинные дарования интеллектуала и оратора, чтобы объяснить ошеломленным немцам тайну выросших, как из-под земли, богатырских полков из неведомой Сибири, когда весь третий рейх ликовал после потрясающих побед над красными.
Гитлер уже 30 января 1942 года выдавил из себя: "нас вынудили перейти к обороне не русские армии, а жестокие морозы, достигшие сорока пяти градусов ниже нуля".
На самом деле, "генерал Мороз" — это псевдоним Жукова. Геббельс углубил фюрера и всю вину за катастрофу под Москвой обрушил на рослых, спокойных воинов, чьи валенки, белые полушубки и ушанки укрупняли их, делали еще более внушительными. Мистические струны в душе маленького "Мефистофеля"-искусствоведа зазвенели, и он, казалось, даже подпал под очарование этой грозной силы, пришедшей из таинственных глубин снежной Сибири, людей, не чувствующих стужи, не ведающих страха.
Быть может, он помнил, как национальный пророк Освальд Шпенглер в "Закате Европы", печально обозревая деградирующую Европу мещан с их хрюканьем перед деньгами, возложил последние надежды на людей "русско-сибирского культурно-исторического типа". Шпенглер не предполагал, разумеется, что "русско-сибирский тип" сыграет решающую роль в судьбе Германии уже в середине ХХ века.