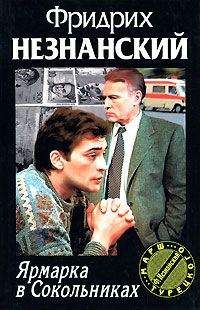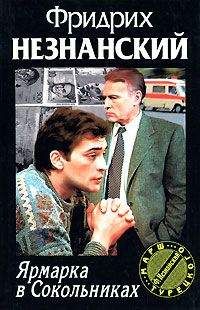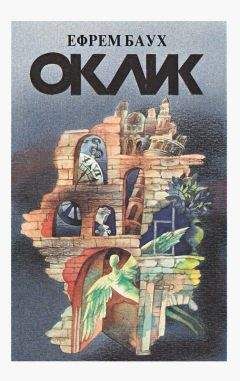2001
Обратная связь Самуил Лурье. Такой способ понимать. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2007
Замечено – и наверняка не мной одним: если, изредка прерывая чтение, бросаешь взгляд на фотографию автора (разумеется, когда издание снабжено таковой), значит, книга или из рук вон плоха, или, наоборот, – нравится. В первом случае смотришь с недоуменным “ну и ну”, во втором – с симпатией и признательностью, как я не раз смотрел на фотопортрет Самуила Ароновича Лурье, автора книги эссе “Такой способ понимать”. Это – почти три десятка умных и непринужденных, то коротких, то более пространных очерков о литературе и писателях: зарубежных и отечественных – от Омара Хайяма до Михаила Булгакова. Исключения составляют два эссе – о Дубельте и о петербургском наводнении 1824 года, но каждый мало-мальски знакомый с историей русской литературы помнит, что и шеф жандармов, и разгул стихии имели известное отношение к отечественной словесности.
Руководствуясь в выборе эпох, авторов и произведений только личными пристрастиями, Самуил Лурье и в самом подходе к предмету столь же своеволен и принципиально непоследователен: это и не биографический очерк в чистом виде, и не собственно литературоведение, а каким-то странным образом – и то и другое. Откроем наобум эссе, посвященное Свифту. В первой части автор бегло и увлекательно знакомит читателя с жизненными и житейскими обстоятельствами классика, во второй – неожиданно и довольно уничижительно по отношению к главному герою “перечитывает” приключения Гулливера. И наконец, на основании изложенных биографических фактов и своего прочтения Свифта, ставит писателю “диагноз”:
...
Сильней, чем Гулливера, доктор Свифт презирал только читателя, поэтому не опасался доверить ему свою тайну: что в этой безотказной, безразмерной заводной кукле спрятал маленького мальчика, каким, по-видимому, прожил всю жизнь – обижаясь на судьбу, на королей, на женщин: за то, что не умеют ценить его по достоинству, то есть любить не заимообразно – к дьяволу расчеты и страсти! – а просто за гениальность.
А сразу за этим частным умозаключением Лурье делает и куда более общий вывод:
...
Так одиноки, как этот клоун Гулливер, мы бываем в рабских состояниях: в детстве, да еще в старости. Поэтому книга получилась бессмертная.
Или другой, глубоко печальный, очерк – может быть, из лучших в книге – об Антоне Дельвиге. Поэт был создан для семейной жизни, души не чаял в жене… Но “хладный свет” с его “добросовестным ребяческим развратом” этого домашнего очага не пощадил. И добро бы только прилежные посредственности, вроде А. П. Керн и ее кузена, Алексея Вульфа, следуя гнусной моде, старательно растлевали жену Дельвига! Каким-то боком и Пушкин – о, низкая истина! – имел ко всему этому отношение, знать не зная, что вскоре сам станет жертвой подобных развлечений. И теперь, когда читатель в курсе этой мрачной семейной истории, очевидна исповедальная подоплека стихотворения Дельвига “Сон”, которое, не узнай мы о личной драме поэта, могло бы быть принято попросту и исключительно за удачную стилизацию под фольклор, – но “метафора отпирается и приводится в движение личным шифром”:
Мой суженый, мой ряженый,
Услышь меня, спаси меня!
Как бы между прочим С. Лурье замечает, что Вульф находил свое поведение интересным, поскольку, в своем понимании, “делал жизнь” со скучающего волокиты Евгения Онегина. И здесь начинает звучать многозначительная тема взаимозависимости автора и его персонажа – недаром очерк называется “Опасные связи”.
Под тем же углом зрения анализируется “Капитанская дочка” – роман, по мнению исследователя, “о бегстве дворянина в мещане, от долга к счастью, из истории в семью. Это автобиографический сюжет, мы находим его в жизни и лирике Пушкина в тридцатые годы”.
И такой регулярный “фирменный” прием Самуила Лурье – переход на личность – хочется назвать “экзистенциальным литературоведением”.
По существу, Лурье перечит ахматовской, ставшей афоризмом-паразитом, сентенции о “соре”, из которого-де “растут стихи”. “Сор”, житейский пустяк способен спровоцировать написание стихотворения, как сотрясение воздуха – сход лавины, но, если говорить серьезно, а не иметь целью произвести эффект на профанов, искусство тщетно, однако вновь и вновь силится развязать мертвый узел личной судьбы автора – и, может быть, искусству иногда по силам хотя бы ослабить этот узел на какое-то время.
Человек волен молчать, но уж если он обладает литературным дарованием, его сочинения, на взгляд С. Лурье, выдадут сочинителя с головой, пусть не школьным “содержанием”, а, помимо авторской воли, – лексикой, синтаксисом, фонетикой. Вспоминается эпистолярное признание Довлатова: «…очень часто, чаще, чем кажется, писатель старается не раскрыть, а скрыть…” Но биография – “водяной знак”, который Лурье берется различить в произведении на просвет. “Формула личного стиля повторяет, хотя и другими символами, формулу судьбы”. Такой способ понимать.
Впрочем, изредка авторский подход, на мой взгляд, дает осечку. Прекрасному гуманитарию и эрудиту, Лурье нравится ловить любимых писателей на несоответствиях вымысла реальному положению вещей – будь то хронологические сбои в “Капитанской дочке”, или выдуманные Гоголем затруднения в подборе имени герою “Шинели”, или ошибки Булгакова в описании механизма доносительства в СССР в 30-е годы. И как дань этим скрупулезным изысканиям внутри эссе разрастается обстоятельная многостраничная историко-литературная “сноска”, и читатель рискует потерять нить повествования. Но дело не только в композиционном перекосе… Лурье считает указанные несоответствия авторской уловкой, тем же “личным шифром”, своего рода “письмом в бутылке”. Но мне-то кажется, что помянутые авторы вообще не имели в виду нарочно вводить читателя в заблуждение и вовсе не играли с ним в “холодно – горячо”, а честно шли на поводу у логики вымысла, не говоря уже о том, что и гений может оплошать в мелочах. Ведь не из каких-то тонких эстетических соображений Лермонтов украсил львицу гривой, а Толстой в сцене тайного свидания Анны с сыном превратил десятилетнего Сережу Каренина в baby , топочущего “по ковру жирными голыми ножками”!
Но все это – “блохи”, “горе от ума”, издержки рационального подхода, которые легко забываются, когда то и дело натыкаешься на замечания, без натуги проницательные, вроде того, что произведениям Пушкина нередко присущ “вид поединка между пасынком судьбы и баловнем ее”. (Жаль, нам никогда не узнать наверняка, за кого держал себя сам Пушкин, хотя кто-кто, а он-то числится баловнем, да еще каким!)
По-настоящему умный собеседник умен не только от сих до сих – в пределах своей концепции, – но и вообще. Вот и С. Лурье умен вообще – умен, обаятелен, красноречив: “Собственно говоря, человек для того и пьет вот уже сколько тысячелетий, чтобы иногда почувствовать себя Омаром Хайямом”. Или: “Ведь женщины так редко говорят правду не оттого, что не хотят: просто они ее не знают”. И т. п.
Лирические отступления автора от его “магистральной” темы – обратной связи вымысла и яви – не менее содержательны, чем авторская “программная” установка (собственно, эссеистика в большой мере и есть лирическое отступление, возведенное в ранг самостоятельного жанра, почему она и вправе считаться изящной словесностью, а не научной дисциплиной). Скажем, когда Лурье мимоходом говорит о писательском, повальном и взаимном – через века и культурные эпохи, – “списывании” друг у друга, которым во многом и жива литература. Явлению такого “перекрестного опыления” целиком посвящен очерк “Краткая история оксюморона “Приглашение на казнь”. Перед нами – приключения сюжета. Новеллу, а затем и пьесу среднего итальянского писателя XVI столетия Джиральди Чинтио принимает к сведению его современник, английский писатель и драматург Дж. Уэтстон, и пишет трагикомедию “на заданную тему”. А спустя еще четверть века та же пьеса б/у под пером его младшего земляка Вильяма Шекспира становится “Мерой за меру”, которую, в свою очередь, Пушкин переделывает в поэму “Анджело”. Ремейк на ремейке!
Слог автора разнообразен и осмыслен. Свое кредо он излагает жестко и без прикрас:
...
Судьба художника в стране победившего тоталитаризма выражает в наиболее чистом виде идею человеческой судьбы вообще – как поиска собственной, личной, осмысленной гибели, как сопротивление принципу энтропии. То ли потому, что мироздание – как ни скучно в это верить – тоже система тоталитарная, то ли – тоталитаризм и есть социальная модель, поясняющая действие второго закона термодинамики: вечное возвращение качества в количество…
Но когда речь заходит о вещах менее ответственных, автор меняет тональность на более разговорную и, среди прочего, симпатично стилизует, скажем, под Зощенко: