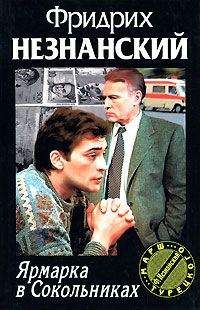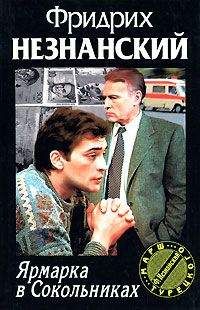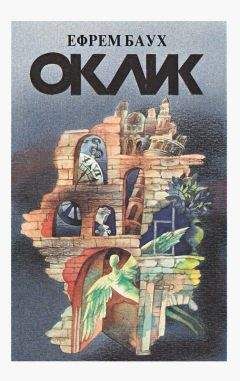Получилась … трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами. Например: Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое”…
(Имеются в виду, если кто не помнит, взаимоотношения А. А. Блока и Л. Д. Менделеевой.) Каламбуры Лурье элегантны (“переход католичества в качество”, “программа погрома”), нечастые афоризмы срываются с языка автора как бы ненароком и не внушают подозрений в стилистическом самолюбовании. Все это, вместе взятое, свидетельствует о развитом чувстве меры и уместности – о хорошем вкусе, проще говоря.
Книга обаятельно оформлена: вид Петербурга то ли на закате, то ли на рассвете.
К сожалению, много опечаток. К сожалению, я не понял вступления, предпосланного сборнику эссе главным редактором и издателем серии – буквально не сумел понять, о чем там говорится.
Но главный недостаток “Такого способа понимать” присущ всем талантливым книгам: они до обидного быстро заканчиваются.
2008
Вообще-то говоря, поэзия – блажь, причуда, вроде сбора грибов или подледного лова. Но причуда причуде рознь, и принято считать, что поэзия – серьезное и небесполезное занятие. Правда, последние двести лет многих (и, вероятно, лучших) русских поэтов с души воротит от слова “польза”. Как малые дети, поэты требуют, чтобы их любили даром, уже за то, что они есть.
Право общество, относящееся к поэзии всерьез, но и поэзия права, отстаивая оплот собственной бесполезности.
Хорошо сидеть на припеке в траве и смотреть на реку. Но предположение, что солнце, растения, вода имеют целью и назначением доставлять нам удовольствие, вряд ли придет в здоровую голову; о смысле природы мы можем только гадать – каждый в меру отпущенного ему воображения, ума, темперамента. Вот и поэзия: ее конечные прямые устремления – неясны и загадочны; впечатление, которое она производит, – только косвенное следствие ее существования. Мы можем надеяться, что поэзия придет нам на помощь, но мы не смеем требовать от нее помощи: поэзия – дар, а не зарплата. Только раз и навсегда приняв это к сведению, свыкнувшись с мыслью, что единственная обязанность поэзии – быть поэзией, допустимо, я думаю, загибать пальцы и прикидывать, есть ли у стихов какие-нибудь земные задачи. Ни на чем особенно не настаивая, предлагаю свои соображения.
Первое. Занятый по преимуществу словами и самим собой, поэт изо дня в день пишет идеальный автопортрет, воплощает на бумаге мечту о себе. Тактичное иносказание “лирический герой” мы вольны понимать и в изначальном смысле – поэт героизирует себя, проявляет самые яркие свойства своей личности, приглушенные в быту житейским трением. Постоянное общение с идеальным двойником дисциплинирует автора, помогает ему не опуститься и выстоять. Автор чувствует, что слишком большой разрыв между ним и лирическим героем – пагубен для обоих: опустошенность отзовется в лучшем случае немотой, в худшем – пустословием.
Но нравственная отдача от творчества знакома не только пишущему, она ощущается и читателем.
Поэзия относится к реальности как беловая рукопись к черновику. Драматизм жизни не выдумка искусства. Драма в природе вещей, но вещи ее застят. Поэзия наводит жизнь на резкость, и главная праздничная основа существования проступает из повседневной невнятицы. Поэзия – это сослагательное наклонение жизни, память о том, какими мы были бы, если бы не… Короче говоря, поэзия в состоянии улучшать нравы.
Второе. Жизнь, как известно, не сахар. Одиночество, может быть, самая горькая из всех напастей. Человеку часто не с кем поделиться унынием, внезапной мыслью, хорошим настроением, но он открывает книгу, и он – “уже не один”. Оказывается, совсем чужие люди – “уже были здесь”, думали, радовались, огорчались примерно так же, как он, и из-за того же самого, что и он. Теперь эти люди ему не чужие. Обнаружившееся духовное сходство мешает подростковому чувству собственной исключительности, но все мы рано или поздно становимся взрослыми и по горло сытыми собственной исключительностью людьми. Значит, искусство – это еще и общение. И поэзия – лучший способ общения, потому что самый эмоциональный.
И третье. Кофе на огне набухает, точно силится снять через голову свитер; в слове “поезд” уже наготове опоздание; после двадцатилетнего перерыва старый опальный поэт выступает на публике в пиджаке, застегнутом от воодушевления не на ту пуговицу… Это все дорогостоящие мелочи мира, в котором мы почему-то очутились на время в первый и в последний раз. Стыдно быть тугим на ухо и подслеповатым. Если нас больше ругани обижает невнимание к нашему маленькому творчеству, то что говорить о равнодушии к Творению, о недуге машинального существования! Поэзия помогает ценить жизнь. Даже когда поэт клянет мироздание, он его все-таки заметил, оно его не на шутку взволновало. “Наблюдательность – добродетель лирического поэта”, – сказал Мандельштам. Осмелюсь добавить, что наблюдательность – род признательности. Поэзия всегда в конце концов – бесхитростная благодарность миру за то, что он есть.
1997
В суровой элегии “Безумных лет угасшее веселье…” Пушкин выражает надежду, что остаток дней ему все-таки скрасят наслаждение искусством (“вымыслом”) и любовь. Поэт не уточняет, правда, имеет он в виду радость собственного творчества или сильные впечатления от чужих произведений. Но для сегодняшнего разговора эта неопределенность даже и кстати, поскольку сейчас уважаемые, талантливые и проницательные эксперты равно невысокого мнения как о читателях – любителях современного вымысла, так и о его творцах, считая первых профанами, а вторых – прожженными профессионалами-беллетристами или простодушными рутинерами.
О беллетристах не теперь – мне хотелось бы поговорить о рутинерах, вернее – о “рутине”.
В нынешней вымышленной прозе, претендующей на серьезность, знатоки наметанным глазом угадывают родство с товаром second hand и предрекают или даже констатируют окончательное вырождение такого рода словесности, проча на ее место non-fiction. Против фактов не попрешь, и крыть почти что нечем. Но осознаем все-таки “размер потери”. С чем мы расстаемся безвольно, как загипнотизированные, и что получаем взамен?
Добро бы у нас вовсе отпала потребность в традиционной духовной пище – плодах фантазии. Вряд ли. Держим мы свою голодовку не лучше Васисуалия Лоханкина, время от времени подкрепляя силы классикой, а эстетический диатез от решительного перехода на новый духовный рацион пытаемся подлечить, используя нехудожественные жанры (переписку, дневник, маргиналии, филологические заметки и т. д.) не по назначению, а как художественные – как бы художественные.
Но самую драматичную переписку, самый пронзительный дневник, тонкие и точные заметки по случаю отличает и сближает одно – ослабленный эстетический заряд. Художественный эффект в полную меру и не предполагался авторами так называемых “человеческих документов” – пусть даже и вышли они из-под пера талантов и непревзойденных стилистов. Балерина ходит, садится, стоит в очереди к прилавку и спешит на электричку пластичней и краше простой домохозяйки, и этим можно полюбоваться, но во всех перечисленных случаях она не занимается искусством. В ее телодвижениях нет целенаправленных усилий таланта; значит, целое измерение – замысел – упразднено за ненадобностью. Тютчев, конечно, сказал: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…” – но сказал-то он “как”, а не “какое”!
Помимо отсутствия эстетического замысла, документальным и склонным к документалистике жанрам, по определению, приходится обуздывать воображение. Разумеется, у творческих людей фантазия и вымысел просачиваются всюду, но в non-fiction они дают о себе знать не напрямую, а по касательной – то как ложная память, то как прямая корысть и подтасовка фактов, то как издержки энтузиазма и т. п. Аналогия с бытовой пластикой балерины опять же уместна, потому что в non-fiction нет и быть не должно принципиальной установки на игру воображения – оно и теплится постольку-поскольку, вполнакала. Зато окорачивают автора в документалистике самые что ни на есть посторонние по отношению к искусству поводы: причинно-следственная связь реальных фактов, а не логика игры; приличия и такт (хотя в последнее время нередки попытки нарушением нравственных норм возместить нехватку артистизма) и другие совершенно нехудожественные резоны.
Между тем оптика “магического кристалла” не только не замутняет изображаемую коллизию или характер, а, напротив, проясняет, наводит на резкость. Известно, например, что старый князь Болконский “списан” с Ивана Яковлева, отца Герцена, – одного из самых запоминающихся героев “Былого и дум”. Ну и у кого вздорный старик аристократ получился живее – у хроникера или у сочинителя? И дело, сдается, не только в том, что у гениального Толстого “описание” персонажа получилось лучше, чем у талантливого Герцена, а в том прежде всего, что гений одними фактами не довольствуется, ему дано взглянуть на реальные события с расстояния вымысла и увидеть их в истинном свете, а для таланта действительность исчерпана фактами и их анализом.