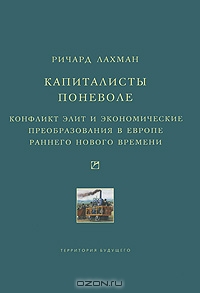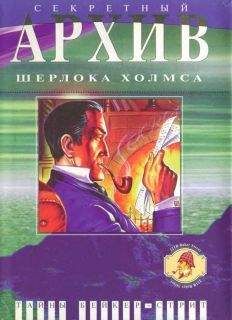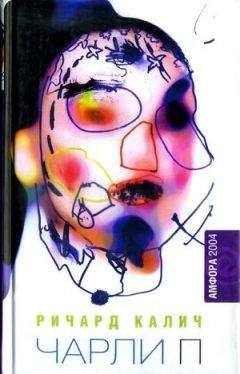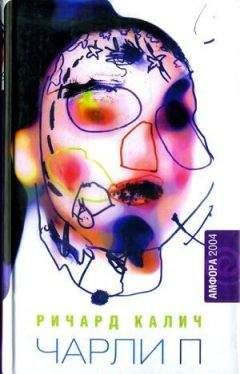даже когда эти люди на местах утверждали, что являются специалистами по управлению местным населением. В Германии же спустя несколько десятилетий нацисты отказались от того, чтобы «политику по отношению к местному населению» завоёванных европейских территорий определяли дипломаты, военное командование и бизнесмены, и внедряли жёсткий контроль над немецкими чиновниками на этих землях. Отсутствие экономической и геополитической значимости немецких колоний уникальным образом повышало силу культурных притязаний колониальных чиновников, и в то же время гарантировало им изоляцию от политики метрополии. То, какое воздействие это отсутствие значимости колоний оказывало на имперскую динамику в целом, можно лучше всего понять в сравнении с империями, присутствующими в верхней половине таблицы 1.1, чьи колонии действительно влияли на политическую экономию метрополии.
Колониальные элиты в метрополии
Ценные и имевшие принципиальное геополитическое значение колонии овладевали вниманием элит метрополий и способствовали их вмешательству в колониальные дела. Однако в Испанской, Французской и Британской империях, представленных в верхнем левом квадранте таблицы 1.1, колониальные элиты сохраняли высокую степень автономии, даже несмотря на то, что они оказывали глубокое влияние на социальные отношения в метрополии. Как им удалось этого достичь?
Некоторые колонии, захваченные французами, испанцами и британцами, обладали громадной ценностью, и богатства, которые можно было оттуда изъять, стали быстро очевидны для элит в метрополии. Последние соперничали друг с другом за контроль над колониями, расставляя своих представителей на должности и земельные владения в завоёванных землях. Ни одна из многих элит в испанской и французской метрополиях не создавала отдельные колониальные элиты по своему образу и подобию, которые отличались бы по типу культурного капитала, как в случае германских колоний, или особым организационным аппаратом. Напротив, испанские и французские короли, крупная знать, духовенство и государственные чиновники предоставляли людям, направлявшимся в колонии, множество концессий в обмен на авансовые платежи, или обещали им долю в будущих доходах. Хотя монархи (по крайней мере, теоретически) выступали арбитрами последней инстанции в разрешении конфликтов между колониальными притязаниями, они зачастую уступали эти полномочия или особые колониальные концессии элитам метрополий в обмен на доходы или внутриполитическую поддержку, что ещё больше ослабляло влияние метрополии на колониальные элиты.
Значительный масштаб конфликтности среди элит метрополий был необходимым, но недостаточным условием того, что колониальные элиты добивались автономии от метрополии. Джеймс Мейхоуни в своём сравнении испанских колоний в Америке [47] демонстрирует, что организационные возможности колониальных элит формировались существовавшей до завоевания социальной структурой, и это обстоятельство предопределяло, смогут ли данные элиты сохранить свою автономию в противовес попыткам монархов и других элит метрополии вновь (или зачастую впервые) установить контроль над колониальными чиновниками и ресурсами.
Мейхоуни обнаруживает, что в Испанской Америке колониальные элиты были более единообразны в тех территориях, где они были способны укорениться в богатых, сложных и обладавших высокой плотностью населения доколониальных обществах. Колониальные элиты усиливали свой контроль над коренными народами там, где они могли прибирать к рукам уже существующие сложные системы владычества, а численность покорённых народов была достаточной для того, чтобы обеспечить необходимые трудовые ресурсы для работы на плантациях и в рудниках. В этих колониях испанские конкистадоры оказались способны внедрять «меркантилистский (mercantilist) колониализм в более значительных масштабах», согласно формулировке Мейхоуни. Его детальные очерки истории каждой колонии демонстрируют, что там, где устанавливался значительный масштаб торгового (mercantile) колониализма, существовала тесная связь между чиновниками, духовенством, землевладельцами и купцами, которая превращалась в сплав этих групп. На тех же территориях (например, там, где в дальнейшем появились страны южной оконечности Американского континента — Чили, Аргентина и Уругвай), где коренные народы были малочисленны, рассеяны и не обладали сложным политическим устройством, испанские конкистадоры оказались не в состоянии извлекать достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать своё значительное присутствие. Колониальные элиты этих территорий оказывали небольшое влияние на монархию и прочие элиты метрополии, и в XVIII веке испанская корона смогла внедрить там новые элиты, которые соперничали с предыдущими и подчиняли их.
Мейхоуни выявляет иной механизм автономии элит Испанской Америки, нежели тот, что Стейнмец обнаруживает для германских колониальных элит. В то же время эти механизмы являются отражением особых структур элит в двух метрополиях и организационных возможностей двух империй. Германским колониальным элитам не требовалось воздействовать на политические инфраструктуры завоёванных ими территорий, поскольку они прибыли туда, имея гораздо более сложные (бюрократизированные) институты в сравнении с испанскими конкистадорами, обладая гораздо лучшими технологиями коммуникации друг с другом и метрополией, а также используя куда более смертоносные военные технологии XIX века, нежели те, которыми располагали испанцы на протяжении нескольких столетий своего владычества в Америке (как гласит часто цитируемое высказывание второразрядного британского поэта Хилэра Беллока, «И при событиях любых [пулемёт] “Максим” у нас, а не у них»).
Помимо разных возможностей, которые германские и испанские элиты привносили в свои колонии, они прибывали туда, уже обладая разными статусами в общей структуре элит двух империй. Германские колонисты представляли элиты метрополии, уже обладавшие отличительными качествами, которые определялись в большей степени имевшимся у них типом культурного капитала, нежели матрицей структурных отношений между колониальными должностями и институциями метрополии.
Испанские колонисты, напротив, занимали в Америке должности и контролировали энкомьенды и другие концессии, которые пересекались между собой и ввергали колонистов в конфликты друг с другом. До тех пор, пока испанским колониальным элитам приходилось обращаться за уточнением и гарантиями своих юрисдикций к габсбургским монархам или другим элитам, которым корона делегировала власть в колониях, их притязания на автономию оставались ограниченными. [48] Однако там, где существовала богатая и сложная социальная организация коренных народов, которую смогли подчинить испанские конкистадоры, колониальные элиты оказались в состоянии быстро сформировать такую собственную структуру, которая снижала их организационную и идеологическую зависимость от патронов в метрополии. Для обретения этими элитами автономии овладение существовавшими до европейского завоевания социальными структурами коренных народов, осуществлённое конкистадорами, служило той же цели, что и более постепенное формирование экспертных знаний у германских колониальных элит и создание британскими колонистами-переселенцами национальных идентичностей и институтов (прежде всего, местных собраний представителей). Аналогичным образом французские колониальные элиты объединялись и гарантировали собственную автономию, создавая институты рабовладения на карибских островах, где они уничтожали коренное население. Однако там, где рабы поднимали восстания (прежде всего на Гаити), колониальные элиты вновь оказывались в зависимости от метрополии, и ради самосохранения им приходилось отказываться от автономии.
Структуры владычества, созданные в начальный момент колонизации, были значимы для последующего экономического развития, [49] а также для того, каким