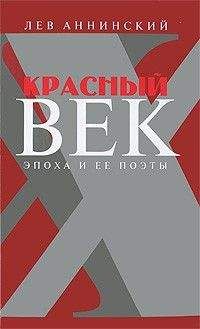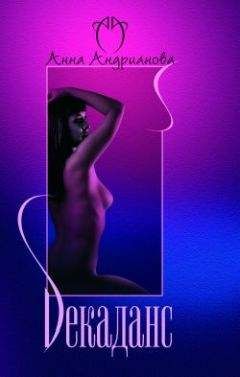Пять поэтических книг его, вышедших при жизни, обсуждались в эмигрантской прессе подробно и остро (только к нам не долетало). Там, за кордоном, его стихи переписывались от руки. Там все было о нем известно. Но не у нас.
Теперь и у нас известно.
Что он успел запомнить из обихоженного новочеркасского детства? «О, как родны и ветла вех, и дым поземки мутно-синей, и кучера на шапке мех, и на усах пушистый иней…» За это, что ли, пошел умирать, с гимназической скамьи брошенный под пулеметы? «И сердце всё запоминало — легко рубил казак сплеча, и кровь на шашке засыхала зловещим светом сургуча».
За что дрался?
За Русь…
За какую?
Мучительно всю жизнь вспоминает потом, какая она — Русь. То ли Булавин, то ли Петр. То ли Пугачев, то ли Суворов. Не потому ли и надломилось Белое движение, что люди, готовые умереть за свое русское имя, не могли наполнить это имя, этот символ реальным содержанием (меж тем, как красные были переполнены сомнамбулическим ожиданием немедленной мировой справедливости и не сургучом — праведной кровью светилось для них каждое слово).
«Орда», — пишет о красных юный корниловец, отступающий от Перекопа к последнему причалу.
«Орда», — пишет зрелый поэт, вслушиваясь в то скифское, дикое кочевье, что по-прежнему кипит в его собственной крови. И «враг под кличкою товарищ», с которым в 1920-м году не дорубили друг друга, — предстает неопознанным собратом — «все равно, в аду или в раю».
Ад или рай — все равно. Важно — Россия или не Россия.
«Двадцатый год — прощай, Россия», — этой строкой озаглавлен однотомник Туроверова, вышедший в Москве в 1999 году и вернувший его российским читателям — через сто лет после рождения поэта.
А в 1940-м сорокалетний ветеран не усидел… понесла нелегкая — в Африку, в Иностранный Легион, рубиться с друзами… Погулял, вернулся. В Париж, естественно. В банк.
О России вроде бы ни слова. Но мучительные стихи о гибнущем коне именно тогда вырвались, — когда в водах тихого Дона принялись мыть сапоги гитлеровцы.
Когда умирал, то написал, как тихие лепестки розы кружатся «во французской деревне моей», и постепенно растворяется прожитая жизнь в голубом воздухе забвенья: «опять разлука и погони, и чьи-то трупы на снегу, и эти загнанные кони на обреченном берегу…»
Что осталось? Поэзия, навсегда оживленная боем. Даже проигранным. Здесь — ответ на вопрос: кто ты?
Так кто же я? Счастливый странник,
Хранимый Господом певец,
Иль чернью проклятый изгнанник,
Свой край покинувший беглец?
И то, и другое, и третье. Медные трубы отзываются погребальным звоном.
Однако интересно: самый ярый враг Советской власти оказывается самым ярким талантом, когда разбитые части русской культуры срастаются вновь.
Прим. Влияние "Сомнения" Глинки и рисунка "Нерон, поджигающий Рим". С.Е."
Марина Тимонина. Идею судьбы испытующий. Нетрадиционное прочтение земной жизни поэта. "Социум",1992/1(13),с.92.
Например, в книге Ирины Рождественской “Поэзия Эдуарда Багрицкого”, Л, 1967.
"В "Стихах о поэте и романтике" 1925 года несколько строк были посвящены бывшему вождю Красной Армии. Друзья перевезли Багрицкого в Москву и устроили ему встречу с Троцким, (который был, как известно, не только безумным политиком, но и умным литекрматурным критиком — Л.А.). Стихи ему не понравились, и через четыре года, когда Троцкого уже выслали из страны, Багрицкий заменил его Лениным". (Владимир Корнилов. Покуда над стихами плачут…, М, с.304).
"После смерти Багрицкого чекисты пытались завербовать Николая Дементьева, и, чтобы не доносить на друзей, он выбросился из окна. Пастернак посвятил его гибели стихи "Безвременно умершему", 1936". (См. Владимир Корнилов. Покуда над стихами плачут… М, 1997, с.310).
См. Елена Любарева. Эдуард Багрицкий. Жизнь и творчество. М, с.240.
Строка «Таратина-таратина-тэнн», которую у Маяковского «мандолинят из-под стен» эстеты, в моем поколении (послевоенных мечтателей 40-х годов) была известна каждому именно как маяковская; мало кто знал, что ассенизатор и водовоз революции заимствовал этот музыкальный пассаж из «Цыганского вальса на гитаре», исполненного Сельвинским в 1923 году.
Три богатыря. Эпопея. М,1990; Pro domo sua. М, 1990. Стихи, написанные «украдкой… без надежды» увидеть их в печати.
Сельвинский идет прямо по следам Маяковского. Еще и с диалогами: «Да… Рановато, Владим Владимыч, из жизни в бессмертье ушли». Кое-что угадано на будущее: «Хрючкин в Париже». Подхвачено Евгением Евтушенко тридцать лет спустя: «Мосовощторг в Париж туристом прибыл». Сельвинский мог оценить перекличку.
Хорошо еще, не потащили на Оргбюро выяснять, что за дуб.
Говорю: гипнотический, потому что не уверен, осознанно или подсознательно задействовано в этих строчках еврейское происхождение автора. Первоначальное значение древнего самоназвания «иври»: пришедший с той стороны, из-за реки.
Пушкин был осторожнее: «в единую семью соединятся».
См.статью Василия Федорова в книге: Александр Прокофьев. Вспоминают друзья. М.1977, с.394.
См. Александр Прокофьев. Вспоминают друзья. М., 1977, с.92
Определяясь среди других поэтов, Прокофьев присягает Маяковскому, но отделяет себя от Блока (то есть скорее от барского сословия: "и к черту летит усадьба, и с ней — соловьиный сад"), от Клюева (от того, что критики пытаются припаять ему клюевскую оппозиционность: а "тут Клюева нет и в помине"), но резче всего — от Сельвинского ("для чего подсвистыванье в "Лютце", деклараций кислое вино? Так свистеть во имя Революций будет навсегда запрещено"; тут отталкиванье тоже вполне объяснимо: оба передают какофонию эпохи, то есть претендуют на одну и ту же роль, но у Сельвинского с его медноголосой программностью нет того простодушия, которое составляет главное богатство Прокофьева; нет и того звериного чутья, которое так старательно выращивал в себе Сельвинский и которым так естественно обладал Прокофьев, правильно учуявший, что "так" подсвистывать Революции Советская власть скоро запретит.
Точнее, минометный расчет, состоящий из пяти братьев (потом к ним присоединился шестой). О братьях Шумовых охотно писала в пору войны фронтовая печать, и естественно, что Прокофьев ввел их в поэму. Из шести до Победы довоевали трое. Много лет спустя (в 1959 году) критик Вл. Бахтин, писавший книгу о Прокофьеве, разыскал в Туве семейство Шумовых. У одного из братьев было тринадцать детей, у другого одиннадцать. Бахтин прочел им поэму Прокофьева. «Шумовы впервые услышали поэму и узнали, что стали ее героями». Я думаю, это — тоже эпическая поэма в одной строке. См. В.Бахтин. Александр Прокофьев. Л. 1959, с.153.
Музыку на стихи о солдате, бравшем Будапешт, написал Матвей Блантер.
См. Евгений Долматовский. Главный песенник. В книге: Воспоминания о М.Исаковском. М, 1986, с.174.
Л.Н.Таганов. Жизнь и творчество Анны Барковой. В книге: Анна Баркова. «…Вечно не та». М.2002, с.456.
Прежде, чем наследие Барковой освоили критики и литературоведы, его спасли от забвения зэки. Надо отдать должное и особистам, которые не уничтожили изъятые при арестах бумаги, а подшили их в «Дела» в качестве вещдоков. Считаю уместным с уважением привести имена тех, других и третьих: Л.Таганов и О.Переверзев, З.Степанищева и Л.Садыги, и наконец, архивист КГБ В.Петров.
В институте было два легендарных семинара: один вел Сельвинский, другой Луговской. Сельвинский упирал на технику стиха: задавал, например, к следующему занятию описать рака. Луговской видел профессиональную школу в другом: чтение стихов сопровождалось вольными дискуссиями о предназначении поэта. Высокие материи не исключали свойского тона: «Мишка, выгоню!» (Мишка — Михаил Луконин). Пройдя войну, ученики, составившие «окопное поколение», обнаружили, что война в их стихах совсем не такая, какая гремела в «Курсантской венгерке». Что не помешало им по-прежнему преданно любить «дядю Володю». См. сборник «Страницы воспоминаний о Луговском».М.1981.
Сурков ставит ударение на втором слоге: видимо, чтобы не спутали с автором Гимна. В 1958-м, когда пишется “Автобиография”, это все еще важно. Знал бы Сурков, как побежит это ударение с конца фамилии на свое исконное место эпоху спустя.