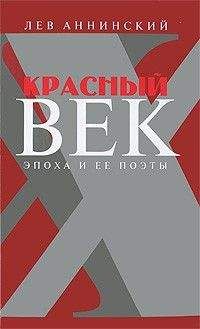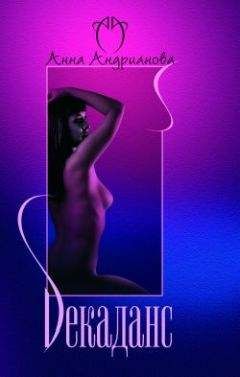«Флаги, тритоны, умывальники, Шеллинг и Гегель, медный геликоптер Спинозы, яблоко Адама, а также страховые агенты, волшебники… дорогие проститутки — все, покрытые тонкими рваными листьями мокрых газет…»
В таком контексте русское словцо «в дом не хотца» кажется уловкой клоуна. По существу России в поэзии Поплавского нет. Зияние. В обстановке «русского Парнаса» это объяснимо.
Труднее объяснить другое: почему Поплавского при всем том дружно называют «самым эмигрантским из эмигрантских писателей». Из какой страны он эмигрировал?
Вернемся в пору, когда он, вместе с отцом спасаясь от революции, перебирается на юг, но еще не покидает крымских берегов. К стенке никто из родных не поставлен, можно воспарять. В юношеских стихах — полный набор открытий русского футуризма, от Маяковского до Хлебникова («космизм, мессианизм, машинизм», — определяет современный критик…нет, не эмигрантский — нашенский). Плюс добрая прививка зауми (которая очень поможет Поплавскому позднее, когда в зрелых стихах он попытается выразить невыразимое!
Этот оттенок «невыразимости», собственно, и придает его ранним стихам колдовскую прелесть, хотя на поверхности текста — весьма выразительный маскарадный ширпотреб «позорного десятилетия», знакомый читателям по Петербургу Андрея Белого (с которым Поплавский был знаком недолго, но, кажется, успел сойтись): танцующие скелеты, омертвело яркие краски, зловещие знаки. И все — как сквозь сон.
Сон — лейтмотив. Иногда для достоверности он подкрепляется какой-нибудь физиологической деталью («сон… сквозь запах ног»). Но важнее — сквозная плывущая музыка, рябящая поверхность стиха, вроде бы небрежного, но сомнамбулически верного ощущению жизни, навсегда ухнувшей в небытие. Как заметили критики, здесь невозможно связать идею с идеей, но можно связать удары сердца, вздрагивающего от толчков. Надо только отдаться шаманскому бормотанию, поверить в «автоматику» души, принять жанр «додекафонии» — то есть какофонии, освеженной детским лепетом дадаистов. И мастерство у Поплавского надо воспринимать в правильном контексте: какая-нибудь выточенная строка: «О, сирены сирен в сиренях» — звучит не щегольством мастера, а шуткой беса, отплясывающего на палубе тонущего корабля.
Образ „Титаника" явно мечен „американизмом".Но, „звездный флаг", время от времени осеняющий бездну, не следует слишком уж привязывать к конкретной стране; точно так же „прекрасный флаг, бледно-алый с звездой золотой" не следует принимать за стяг Советской державы — это все тот же маскарад видений, как и «интересный трехцветный флажок» у «юного добровольца», едущего на очередной «беспочвенный праздник»… куда же? «в страну синеглазую, где танцуют священные крабы»…
Достойны ли эти стихи тех медных труб славы, которыми осенила их русская эмиграция? Не знаю.
«Солнце, проснись… Встань ото сна… Только дыши… Только пиши…»
Я допускаю, что все это «близко к гениальности». Но далеко от почвы. От страны. От любой страны. Франции здесь нет, как нет и России. Есть Париж, Монпарнас, Монмартр. Классическая модель «эмигрантства» — кочевье из небытия в небытие.
Но изначально Россия — есть? Нет. Нет ее изначально. Конечно, «кривая спина кучера» — деталь московская, а не парижская, и деталь весьма достоверная — прямо из жизни подростка, курсирующего между лицеем Филиппа Нерийского и папиной квартирой на Мясницкой. Но эта Москва, и эти «бульвары сонного Страстного» — сразу вписываются не в реальность, а в воображаемый Эдем. Там «декадентские норы» перекликаются с церквями, в которых прихожане «кокаинятся», там «галлюцинации разинутые рты» реальнее расстрела царской семьи, хотя последнему событию юный Поплавский в 1918 году посвящает… Оду. Но и этот жанр надо воспринимать в контексте, который изначально кажется аттракционным: «в истеричном году расстреляли царя, расстрелял истеричный бездарный актер». При этом «от байкальских озер до веселых Афин» расходится у Поплавского «непонятная скорбь».
А стихотворение «О большевиках» — тоже «непонятно»?
Тоже непонятно. Не поймешь, кто «сволочь»: то ли большевики, то ли те, кто пытался преградить им путь: «самые горем сильные». Вот в дневнике 1917 года понятнее: «Хамоправие в России утвердилось навсегда, и спасет ее от смерти только власть Каледина». Каледин, как известно, Россию не спас, а вот «хамоправие» спасло, но чтобы это увидеть, Поплавский должен был дожить до Второй мировой войны.
Не дожил. Да, наверное, и не мог дожить: у него «нежить» была на роду написана. «Он всегда казался иностранцем в любой среде, в которую попадал».
Эмигрировал из развоплощенной России (как определил ту ситуацию Константин Леонтьев) в невоплотимую реальность. О которой Поплавский сказал, что она ему «приснилась», так что вернуться в явь значит вернуться в смерть.
Борис Поплавский умер в 1935 году при загадочных обстоятельствах. Скорее всего, случайно перебрал наркоты…
А прощальное письмо? «В полном уме и здравой памяти…»?
Боюсь, что это жест актера в фатальном маскараде, возможно, рассчитанный на то, чтобы напугать ближних.
Ну, а переломный, прощальный момент — прощание с Родиной — Уход из Ялты?
«Всю ночь шел дождь… Все было сном… России нет!.. Борт парохода был высок, суров…»
В реальности все не так сурово. Поехали с отцом в Константинополь, вернулись, снова поехали, когда белые окончательно проиграли. Читать Блаватскую и Штайнера можно и в Константинополе. «Приходит сон… Там глубоко во сне таинственная родина светает…»
Через пару лет — в Марсель. На палубе — «нежное прощание с турчанкой…»
С турчанкой кончилось — началось с россиянкой, которая много лет спустя передала его слова:
«Революция плоха уже потому, что лишила таких людей, как он, возможности заниматься любимым делом… Пусть работают простые люди»!»
Эта женщина, Наталья Столярова, была во Франции невестой поэта, но оставила его. Она вернулась в СССР, хлебнула лагерей, но спасла то, что только могла спасти: память.
Еще из ее суждений, объясняющих, почему самый одаренный из русских потов-изгнанников был признан «самым эмигрантским»: «Как все эмигранты, Поплавский не нуждался в «новой родине»…»
А в старой?
Человек познал свою свободу,
Слишком ярок он и слишком чист…
Ночь сошла на дивную природу,
На землю слетает мертвый лист.
З.Бой
Ты знал — с тобой одним расплата
Наверное, не я один переписал себе в конце 80-х строки, всплывшие на волне перестройки в либеральном «Огоньке». Это все тот же конец Белой армии:
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной…
Честно признаюсь: донская, казачья половина моей крови вскипела от горького восторга, но дело было не только в родственном зове крови. Я думаю, любой читатель, независимо от генетической памяти, почувствовал тогда странную силу этих донесшихся до нас из-за Стикса «голых каких-то», как сказал бы Толстой, беззащитных и неодолимых строк:
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою…
И наконец — мгновенный поворот драматического сюжета:
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
Душа взвыла: и все?! И это все?! И так просто, так «голо», такбесследно-подло все и кончилось? Ну, скажи еще хоть слово…
Молчание стыло вокруг автора, хотя стихотворение явно было написано рукой великого поэта. Фамилия, впрочем, была знакомая… Горький в «Жизни Клима Самгина» назвал так одного из героев… Но тем более сиротски скудной казалась справка об авторе стихотворения.
Николай Туроверов. 1900 года рождения. Участник двух мировых войн и одной гражданской. (О, видно, как гражданская по стиху проехалась!). Эмигрант. Жил в Париже, работал в банке. Устраивал выставки материалов из русской истории…
Я почувствовал, как русская история вытекает из моих жил. Забыт! Автор таких стихов — забыт, неведом, неизвестен! Даже год смерти в справке не указан… Или еще жив?
В 1989 году, когда я думал так, повторяя фамилию «Туроверов» и твердя наизусть потрясшие меня строки, автор их уже семнадцать лет покоился под Парижем рядом с другими русскими белогвардейцами. Над гробом его, на панихиде, люди говорили (а пришли проводить его сотни людей), что умер великий русский поэт.