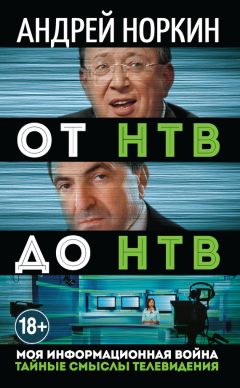Да и сам Мальдорор напоминает "старый океан". Он ироничен и жесток, капризен и своеволен, трогателен и миролюбив, высокомерен из жалости. Он непостижим. "Не приближайтесь к моему смертному ложу, — говорит он. — Если вы заметите знак отчаянья или страха на моем лице гиены (я использую это сравнение, потому что гиена прекрасней меня), то знайте: я улыбаюсь". На самом деле улыбнуться ему невозможно. Он вынужден перочинным ножом разрезать углы рта, дабы вышло подобие улыбки, залитое кровью. Однако ему случается при встречах с подростками произносить сентенции о крови, восхвалять кровь, как стихию более совершенную, чем океан. Прославляя убийство, наставляя одного юношу в технике убийства, он уговаривает его любить кровь: "Ты, молодой человек, не отчаивайся: вампир твой друг, несмотря на твое противоположное мнение. Вместе с пауком акарусом, который вызывает кровавую чесотку, ты будешь иметь двух друзей".
Страсти Мальдорора непонятны, оригинальны, грандиозны. Он — человек-стихия, океан наделил его своей масштабностью, бешенством, красотой, загадочностью. Поэтому его отношение к людям отличается демонизмом и жестокостью, смешанными с надменностью, иронией, снисходительностью. Если это дегуманизация, то дегуманизация высшего существа.
1
Евгений Ликов МУСЬЮ ПЬЕРО УКСУСОФФ
Большой театр — он такой большой, что любое событие, связанное с ним, невольно приобретает значительность. Которая, правда, может иметь разные свойства. Либо царственный блеск главной сцены русской столицы проявляет ничтожность произведения, попавшего на нее, либо рядовое сценическое действо обретает истинно имперское величие, либо драма жертвы, этого "маленького человека" российского разночинства, вырастает до размеров целого мира. И в каждом случае рассуждения пересекают театральные границы, ибо появление чего-то в Большом автоматически относит это "что-то" не столько к искусству, сколько к самой культуре.
Разницу между искусством и культурой уловить трудно, но она есть. Давайте условимся в рамках данного текста относить к первому то, что связано с ремеслом и экспериментом, а ко второй — то, что связано со священной историей и консерватизмом традиции. Испытания в первом случае — против повторения во втором. Интерес к тому, "как сделано" в первом — против вопроса "ради чего" во втором...
Договорились? Тогда к делу!
Зачем последней премьерой сезона в Большом театре стал "Петрушка" Михаила Фокина? О чем этот балет говорит с нынешним зрителем? Вот на эти два вопроса мы и постараемся найти ответ.
Итак, зачем?
Здесь всё выглядит довольно просто, разумно и благородно. Сергей Вихарев, хореограф из Мариинского театра, принципиально не берется за "искусство", всецело отдавая себя "культуре". Его консерватизм столь всеобъемлющий, что он неоднократно заявлял, что только реставрация старых спектаклей является для него значимой. Вихарев ищет записи хореографий и записки хореографов. Пытаясь показать зрителю то, что, на его взгляд, предлагал автор "во время оно" (священное время балетной истории), Вихарев стремится повторить "изначальное событие", не давая тем самым умереть частному миру балета. Это серьезно настолько, что сам танцмейстер может не осознавать всю глубину содеянного.
Однако это не означает, что данное измерение отсутствует.
Поэтому в системе ценностей Сергея Вихарева обращение к "Петрушке" закономерно.
Правильные же отношения Большого театра и Культуры таковы, что тоже снимают вопрос "зачем?", когда речь идет о балете, прямо скажем, не первого ряда танцевальности: затем, что мы воссоздаем мир в его полноте, вот зачем!
А вот о чем говорит "Петрушка", разобраться стоит. Аберрация близости исчезла, сегодня смысл произведения столетней давности понятен более, чем в момент создания. Так всегда: наши поступки тоже объяснят потомки — они будут видеть не только нас, но и наше время, которое мы, нынешние, в лучшем случае только смутно ощущаем...
Мы принципиально не станем касаться очень важного спора относительно того, насколько аутентичен хореографический текст, предложенный Вихаревым. Это отдельная, большая тема, она тоже имеет отношение к области сакрального, но больше по касательной, нежели прямо. Вернее так: соответствие танцевального рисунка первообразу относится к области эзотерического знания, тогда как эмоциональное тождество первоисточника и копии — к сфере экзотерической.
Мы, зрители, говорим о второй, ибо только она нам доступна. Без обид.
Балет "Петрушка" написан Игорем Стравинским (а именно себя требовал называть автором балетов данный композитор!) и "придуман" Михаилом Фокиным в 1910 году. Для "Русских сезонов" Сергея Дягилева, для внешнего зрителя.
Важно всё. Во-первых, балеты Фокина не были допущены до сцены Императорских театров. Во-вторых, самые значительные из работ хореографа относятся к периоду между двумя революциями.
Последнее важно: балет "Петрушка" не есть трагедия "маленького человека" вообще, но есть личное горе конкретных Михаила Фокина и Игоря Стравинского. Русских людей, которые растерялись. Они не могли быть аристократами (не родились, что там), аристократическая культура ясности и простоты воинов им была чужда, но и хаотичность "земли" их пугала.
Революция была неизбежна. Так случается всегда, когда если не главным, то самым авторитетным становится так называемый "образованный класс". Тут даже аристократия, стремясь в университеты, подрывает "золотой генофонд" неграмотности. Творческий потенциал невежества вытесняется "мнениями". Результат — предательство монарха чуть менее чем всем генералитетом во главе с генштабом (см. Россия, 1917, Алексеев, Корнилов).
Это одна сторона. Другая: пренебрежение разночинца к "черной сотне", к "суглинку средней полосы" (Вс. Емелин). Даже так: страх перед этим то ли чернозёмом, то ли болотной топью...
История, которую рассказывают нам Стравинский с Фокиным, проста.
Кукла-Петрушка живет, по-видимому, в браке, с куклой-Балериной. Которая совращает куклу-Арапа. Жалкий Петя плачет, взывает к чему-то, но Арап просто рубит паренька саблей. Человечек мертв, но обида его жива — вот он в финале бессильно грозит с неба убийце: "Я вернусь".
Ничего не напоминает? Тогда почитайте литнаследие первой эмиграции. В которой закономерно оказались и Фокин со Стравинским.
Как решено действо сценически?
Зрителю навязывается площадная балаганность в стиле "национальных резерваций". Здесь цыгане, медведи, пьяные купцы. Здесь нет симпатичных лиц, здесь нет друзей. Нет своих, понимаете, нет!
Стоп! У кого это нет? У Петрушки? У ярмарочного Петра Петровича Уксусова нет своих на русской ярмарке? Ну, это вы бросьте. Это у европейского Пьеро нет, хотя он тоже не очень-то образован. Но ему прощается и невежество ради чужеродности и нытья.
Вокруг Пьеро Уксусофф чужие, враждебные ему русские. Народные массы, "черные" настолько, что для аллегорической передачи данной "тьмы" понадобился арап, молящийся не на иконы, а на золоченый кокосовый орех.
Нелюдь, в общем, только не отожествляйте Арапа с биологическим негром. Арап — это мы все, необразованные и грубые. Аристократы и крестьяне.
Вам все еще жалко "Петрушку" Стравинского-Фокина?
Каким бы ни был ваш ответ, отметим, что данное произведение — балет-детектор! От него (чуть-чуть поправим Егора Летова) хорошим хорошо, а не очень — не очень. Если вы после после "Петрушки" презираете "Руссо Пьеро", то у вас здоровые инстинкты, если сочувствуете, то ваша виктимность достигала терминальной стадии.
Русский Петрушка не живет в одноименном балете! Вас обманывают. Протагонист работы Фокина — мусью Ускусофф. Трусливый и слабовольный в родной комедии масок, презираемый на родине, он, чужой нам, вдруг стал культурным героем определенного слоя.
С чего бы? Только не надо об "отзывчивой русской душе". Это даже не сказки.
Предлагаю подумать, как бы поступил наш П.П. Уксусов в предлагаемых обстоятельствах. Точно: он взял бы городошную биту и вышиб мозги негру. Затем въехал бы в табло "тёлке". Не убивать же — где других взять? Это ведь женщина-хаос, главное родящее начало мира. Не только живородящее, но зачинающее внутри себя вообще всю материю: косную и не косную.