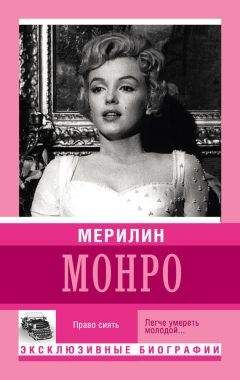В Подмосковье, в Талеже, святой источник несказанно изукрасили за три года. Тут и храм, и звонница, лестницы и мостики: металл нержавеющий, мрамор, лакированное дерево, позолота. Ограды художественной ковки, беседки резные, сторожка.
И — охранники у ворот. И детям бегать не дают. Охранники с дубинками. Стреляют острым глазом и детей за шкирки хватают. И грозят. Здоровенные амбалы. С мобильниками в карманах. Охрана.
Наверно, в их присутствии здесь есть нужда. Столько золота вбухано! Золото блестит, мрамор лоснится, а детского смеха не слыхать. Подавлен детский смех профессионалами частных спецслужб. Да и вы чувствуете себя несколько пришибленным посетителем чужой собственности. И с грустью вспоминаете, как года три назад можно было здесь, на пустынном тогда лугу, босиком походить, и ребенку побегать за бабочками-капустницами. А теперь: "Стоять!"
Наверно, Дух святой тоже подчиняется законам физики. Ничто не пропадает бесследно. Если в одном месте прибудет — в деревне Фоминской Вельского района Архангельской области, то в другом — убудет.
НА ОСТРОВЕ
А вот письмо. "Мы, жители острова Залита, что в Псковской области, обращаемся к вам за помощью. В 1958 году к нам на остров приехал отец Николай служить в церкви. Мы все его очень любим. Он кроткий. Он — старец по Духу. Всем помогал. Мы жили тихо, спокойно. Его святыми молитвами все беды миновали остров: ураганы, наводнения, пожары. О. Николай вымаливал нас у бед.
А теперь у нас на острове нет покоя. Появилась Валентина, выжила всех женщин и объявила себя келейницей. Потом появилась еще некто Гроян. Пошли беды.
Сперва навесили замок на дверь домика о. Николая. Батюшка целыми днями сидел взаперти, благословлял из окна. Мы общались через дверь. Но затем и на калитку повесили замок. И поставили охрану!
Валентина к батюшке чад не пускает. Проклинает. И детей наших проклинает. "Вы с хвостиками, рожками и забираете силу от батюшки, он ночью кричит от вас". А батюшка говорит: "Нет, я не кричу".
Раньше он часто выходил к нам со слезами, но вот уже второй год мы его совсем не видим. Охрана кругом, замки, забор двухметровый.
Валентина очень дерзко, с проклятиями встречает людей. Сама взялась лечить, благословлять крестом, мазать маслом.
Помогите освободить батюшку, а его чадам посещать его. Он сам просит о помощи".
И далее следует 97 подписей прихожан.
Страсти кипят у порогов келий, под стенами монастырей. Мирская жизнь омывает святые места. Наш давний автор, писатель Сергей Щербаков, живет в волнах этого прибоя — недалеко от Борисоглебского монастыря на Ярославщине. Только что вышла его новая книга "Про зырянскую лайку". Фрагмент из нее пришелся нам в строку.
1
2 u="u605.54.spylog.com";d=document;nv=navigator;na=nv.appName;p=0;j="N"; d.cookie="b=b";c=0;bv=Math.round(parseFloat(nv.appVersion)*100); if (d.cookie) c=1;n=(na.substring(0,2)=="Mi")?0:1;rn=Math.random(); z="p="+p+"&rn="+rn+"[?]if (self!=top) {fr=1;} else {fr=0;} sl="1.0"; pl="";sl="1.1";j = (navigator.javaEnabled()?"Y":"N"); sl="1.2";s=screen;px=(n==0)?s.colorDepth:s.pixelDepth; z+="&wh="+s.width+'x'+s.height+"[?] sl="1.3" y="";y+=" "; y+="
"; y+=" 51 "; d.write(y); if(!n) { d.write(" "+"!--"); } //--
52
Напишите нам 5
[cmsInclude /cms/Template/8e51w63o]
Сергей Щербаков ДРУГАЯ ЗИМОВКА
НИКИТА УСТРОИЛСЯ на скамье подальше от всех, чтобы сохранить спокойную полноту набранных ощущений, не расплескать ее сразу в бесплодном многоговорении, что раньше случалось с ним довольно часто.
Уезжать, как всегда, не хотелось — давно бы надо перебраться в этот махонький городок "в средней полосе России", прекрасней которой нет ничего на земле. Здесь монастырь, здесь теперь все лучшие друзья, но одна, как говаривали в старину, запятая все-таки мешала собраться с духом и сказать: "Теперь наш дом здесь, а Москва только для заработки денег". И не то что дом покосился, что печка поддымливает, а кое-что более важное. Как любил пошутить один богатый знакомый: "Никитушка, брось ты прибедняться — ты счастливчик, и тебе все одно где жить, у тебя жена всем довольна, а у меня — хоть ты тресни, хоть виллу на тропическом острове ей купи — она все равно будет шипеть и жалить. Благодаря именно ей я понял, что счастье не в деньгах, не в славе, не в месте, а в том, чтобы человек, с которым ты живешь, всегда был тебе рад". Так же шутливо Никита уличал его, что свое-то счастье он все же устроил именно за деньги — почти всегда бывал в отъезде и завел любовницу, которая была довольна всем на свете. Хотя с женой тоже приходилось иногда жить, а ее настолько все в муже раздражало, что даже не нравилось, как он завязывает шнурки…
Нет, конечно, знакомый был прав и с Москвой расстаться не так-то просто — все-таки она тоже родная и любимая, как жена, да и стоит она опять же в самом центре "средней полосы". И сколько лет жизни в ней прожито. И каких лет! Шутки шутками, но Никита-то и без знакомого знал, что для счастья нужно не место, а мужество…
Впереди предстояло четыре часа пути на электричке, но здесь Никита любил даже тряску, любил людей в крепких брезентовых куртках, с тяжеленными рюкзаками за спиной. Чем и как они в наше время жили, оставшиеся без работы или же получая заработанные деньги раз в полгода, невозможно было представить. Никита обыкновенно говорил, что нынче почти весь русский народ "живет фальшью" (это у Андрея Платонова, кажется в "Чевенгуре", один мудрый мужик, отдавая сироту в многодетную бедную семью, объясняет, что в малодетной он сразу будет в тягость, а тут — "пропитается фальшью"). Но лица у людей, "питающихся фальшью", никак не походили на несчастные. Они были озабоченные, задумчивые и даже веселые, а угрюмых почти совсем не было… Потому ехать с этим народом в одной электричке было надежно и даже приятно. Чувствовалось, что здесь любое безобразие мгновенно прекратят женщины… И сейчас Никита с удовольствием подумал: вся дорога впереди, еще можно насмотреться на живые человеческие лица, обдумать свою жизнь, подвести итог нынешней поездке. С удовольствием глядя в окно на проплывающие назад знакомые дома, на бельевую веревку с мокрыми рубахами, на эти таинственно-прекрасные миры деревенских дворов, на сухого старика, который год поднимающего ветхий забор; он видел душевными очами две старые, тесно прижавшиеся друг к другу лиственницы во дворе монастыря; застенчивую улыбку о. Василия, не знающего, куда деть мощные крестьянские ладони, слышал его детски-звонкий голос. Никиту до слез умиляло, что он вместо "присно" выпевает "прысно"… "Ныне и прысно и во веки веков. Аминь…" А вот и сам Никита ранним утром идет на монашеское правило. Идет совсем вялый со сна, и вдруг, услыхав пение птиц, поражается: “Господи, как же они нежно поют на заре, гораздо нежнее, чем днем”. И сразу пропала усталость, словно нежное пение птиц омыло не только душу, но и все изнемогшие члены…
Но только городок скрылся из виду, как на скамью напротив тяжело уселся прежде времени поседевший мужик, скорее всего, ровесник Никиты, рождения первой половины 50-х годов. Вокруг было полно свободных мест, так нет, надо непременно перед глазами маячить… На душе стало грустно, словно ты шел после причастия со скрещенными на груди руками — выпить теплоты, а какой-то невоцерковленный человек, не понимая, что ты хочешь подольше пожить в чистоте духа Святаго, хватает тебя за рукав: "А где тут свечку за упокой поставить?"
Никита невольно задержал взгляд на соседе и, как всегда, попался на этом: обычно несчастные люди ловят человеческий взгляд, как собаки, и если поймают, то пиши пропало… Правда, раньше Никита даже любил поделиться с такими встречными деньгами, едой, а потом внушать, что без Бога не до порога, вспоминать, как сам он вышел на спасительный путь, но потом стал понимать, что многие из таких даже начинают ненавидеть его за "душеспасительные разговоры" и всем своим видом стараются сказать: "Что ты лезешь ко мне со своим Богом". Но Никита все равно лез, пока о. Василий не внушил ему, что поучать — дело священников, а не мирян. Теперь Никита старался даже не глядеть на таких, как не глядел на бездомных щенков (знал, стоит взглянуть, и потом будет постоянно мучить глупая неотвязная мысль: почему не взял, а куда взять-то, одна собака уже есть, денег самим-то теперь только-только хватает свести концы с концами…). Но этот попутчик зацепился за долгий взгляд: "Домой едешь? А у меня дома теперь нет — ушел я от жены. Надоело с утра до вечера слушать одну и ту же песню: деньги, деньги, деньги… Так что честь имею — бомж. Точно, я теперь бомж. Ха-ха-ха…" Было понятно, мужик не прикидывается, до него и в самом деле только сейчас дошло, что он бомж. Он даже замолчал на некоторое время, не в силах переварить своего открытия. Никита же, скрепив сердце, старался показать всем видом, что он не слышит, о чем ему говорят. К тому же его раздражило, что от мужика крепко попахивает водкой. Видя, что слушать его не желают, попутчик присвистнул: "Дожили мы, уже поговорить в России не с кем стало. Ты еврей, что ли?.. А… ты глухонемой? Час от часу нелегче. А я-то три вагона обошел… Думал, ну наконец-то нашел человека, которому можно душу излить, а он, оказывается, глухонемой… А может, ты только немой, а?" Неожиданно даже для самого себя Никита вдруг согласно закивал, едва сдержавшись, чтобы не сказать: "Не нынче мы дожили — вон еще Чехов в "Тоске" рассказывал, как человеку русскому некому было свое горе поведать, кроме лошади…" Сосед же здорово озадачился — теперь получалось, что он должен раскрывать свою душу этому немому. Такой оборот дела, конечно, не устраивал, все же хоть короткие ответы хотелось бы слышать. Однако и уйти невозможно. Он даже вспотел от неразрешимости вопроса, потом махнул рукой: "Ладно, что делать, как-нибудь поговорим с тобой… Выпить у тебя, конечно, тоже нету?.. Ну и не надо. Мне уже водка не помогает. Знаешь, наверное, что иногда до того дойдешь, что похмеляться бесполезно. Потому я тебе лучше расскажу свою жизнь. Жизнь у меня — пять романов написать можно. Хотя, может, и не пять, но три-то уж точно. Да ты не бойся: как надоест, так сразу головой вот так затряси — я и заглохну. Зовут меня Леша. Университетов я не кончал, но тысячу книжек, думаю, прочитал. Раньше, правда, почти все много читали. Хотя и сейчас считают. Сидят в метро с этими скользкими цветными книжонками. Мы-то такую жвачку и в руки бы взять постыдились — мы выросли на Есенине, Джеке Лондоне, Шукшине… Нынешнюю лабуду мне и даром не надо. Уж лучше я водку буду пить. Правда, пить-то сил уже нету. Некуда, браток, нам деваться стало. Ты, я вижу, хоть и немой, но нашего поля ягода. Эх, а раньше! Ты на Севере не бывал? Жалко. Там стоило побывать. Сейчас, конечно, незачем. И Севера теперь нету. Одно северное сияние осталось. Знаешь, что бы теперь ни болтали, романтика-то была. И больше людей ехало на Север именно за туманом, а не за длинным рублем. Может, ты и не поверишь, но только этот туман еще держит меня на свете. Знаешь, не могу я нынче жить. Душа как-то вся отбилась. Руки-то у меня, видишь (руки у него были мозолистые, рабочие), золотые, как раньше говаривали. Захотел бы, как сыр в масле катался, но помнишь, один мужик у Василия Макаровича говорит: а я не хочу, как сыр в масле, — склизко. Вот и я не хочу. Скучно мне только деньги зарабатывать, неинтересно. Хотя мог я их иметь. И имел — на Севере по тысяче в месяц получал. Теми-то деньгами. Чуешь? Бывало, в столовке встану последним и за всех заплачу. Туман… И не один я такой там был. Но лучше всего было на Вайгаче. Я там не одну зимовку провел. Жили всемером. "Семеро смелых" — помнишь, фильм? Господи, и как жили. Какие мужики были! Когда уезжали с зимовки, каждый брал что и сколько хотел. Дележки не было, но никто в обиде не оставался. И только один падла за все годы нашелся, с Западной Украины (западенцем, сам он себя называл, а мы его — бендеровцем недобитым): столько нахватал шкур, рыбы, что пройдет пять метров, а у него все из рук валится. Так он остановится, подберет и снова пыхтит, а у него снова валится. Помогли мы ему донести все до самолета, и никто ни слова не сказал, но на следующий год единогласно его на зимовку не взяли. До смерти я Вайгач не забуду. Хотя давно уже там никто не зимует, да и сама зимовка, я слышал, сгорела… Мне как-то подвыпивший парень из стриженных под американских солдат на улице говорит: "Батя, мы вас на пять порядков обогнали…" Не стал я с ним спорить, просто сказал: "Нет, тебе я не батя — тебя я бы на зимовку не взял, ты — "западенец"… Ничего он, конечно, не понял, нечем ему меня понять…"