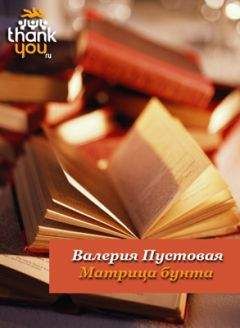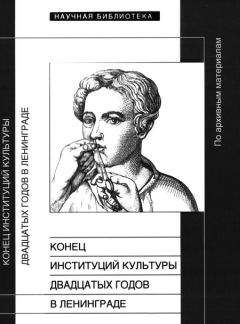Когда ты знаешь, где центр и как к нему идти, хочется позвать кого-нибудь с собой. Литературного героя — в сконструированную тобой литературу. Интересно понять художественные тексты писателей в свете идей их критических выступлений.
Чтение критики Дмитрия Быкова и Олега Павлова привело меня к убеждению, которое вряд ли им понравится: литературные и общественные ценности этих двух видимых оппонентов на деле во многом совпадают. Формально Быков модерновей Павлова, но недалеко ушел от него по руслу традиции. Он точно так же верит в писателя, который «обращается к главным вопросам своего времени и не боится их»; так же смотрит на литературу как на путь познания жизни; ему так же неинтересен писатель без яркой, большой судьбы; наконец, он так же понимает важность приобщения писателя к общезначимому контексту и надличным ценностям. Магистраль их полемики пролегает, пожалуй, не в сфере идей, а в сфере их выражения. «Почему надо непременно рыдать, стенать или брюзжать, когда сталкиваешься с историей вроде той, что изложена в “Карагандинских девятинах”, <…> — тогда как можно написать отличный “скверный анекдот” страниц на двадцать», — так Быков по-своему переосуществляет замысел повести Олега Павлова («Своя правда» // Континент. 2003. № 115). Быков пренебрег глубинной основой построения повести Павлова потому, что это принципиально иной по отношению к читателю текст. Павловская повесть заявляет свою ценность одним пафосом приближения к правде и вере. А Быков пишет убеждая, аргументируя, выводя к своей истине через заблуждения парадоксальностей. Текст Быкова всеядно общителен, тогда как Павлова — внятен только близкой душе, загодя похоже настроенной. Подобное пренебрежение манипулирующими, завлекающими возможностями литературы в пользу ее смысловой миссии не может не раздражать Быкова, всегда дерзающего убедить самого неподготовленного, незнакомого, чужого читателя.
В том, что собственно фабульную часть «Карагандинских девятин» («Октябрь». 2001. № 8; смотри также: Павлов О. Повести последних дней. М.: ЗАО Изд-во «Центрполиграф», 2001) можно при желании легко свести к мрачному анекдоту, Быков, пожалуй, прав. Поводом к основным событиям повести становится подарок от души, ставший долговой обузой для получателя. Глухой начальник полигона хочет одарить очередного подчиненного-срочника вечным нержавеющим зубом. Но коварство начмеда тормозит дар на стадии выломанной в зубном ряду прорехи, а демобилизацию — на моменте переезда солдата с места службы в больницу, растягивая бесконечно дни его армейской неволи. Далее следуют чиновничье интриганство, путаница в лицах, символические переодевания. В руках Быкова авантюрность такой фабулы получила бы текстообразующее значение. У Павлова же она не только погашена, заслонена внутренним сюжетом, но даже в итоге мешает его главному пафосу! Чем дальше развиваются события, тем дальше Павлов уводит нас от своего сокровенного идеала. Ибо самое ценное в этой повести — ее начало, небольшая глава о дофабульном бытии героя — о его службе до «призового» попадания в больницу.
Глухота начальника, неделями длящееся одиночество в обществе немых истуканов-мишеней преображают мироощущение солдата Алексея Холмогорова. Мир за полигоном обращается в суетный прах, мираж, и единственно реальными оказываются одиночество и тишь его службы. Пустынность дней отдает героя во власть борьбы звериного и святого за его душу. Святое побеждает, и служба превращается для Алексея в послушание, одиночество и глухота единственного собеседника — в подвиг молчальника, тяготы — в блюдение поста, когда в просветлении покоя «еда становилась чем-то невыносимым, как напоминание о жизни». Алексей, по сути, оставлен наедине с абсолютными жизнесмертными сущностями: теплом — холодом, суетой — тишью, одиночеством — сыновством. Итог его службы — выпадение в божественную истину бытия: «Вон как все хорошо кругом».
История службы Алексея Холмогорова тишине так и остается прелюдией, нужной только для объяснения его действий в пространстве текста последующего. И даже жаль, что сатирическое, абсурдное развитие повести в итоге перевешивает органику и мудрость этого зачина.
Несоразмерность фабульного и смыслового плана видна и в одной из последних книг Быкова — романе «Эвакуатор». Если в повести Павлова меня привлекло начало, то роман Быкова я вполне оценила только к его концу. События в «Эвакуаторе» в самом деле анекдот, к тому же анекдот политический: в годину ни много ни мало как гибели нашего отечества, а затем и всех стран от мирового терроризма, а также всечеловеческой тупости и бездарности — Быков предается как социологическому, так и нравственному морализаторству. Одной москвичке от большого везения перепадает «инопланетянин», вовлекающий ее в жесткий квест-сюжет: найти пять человек, успеть вернуться и в этом случае всем вместе эвакуироваться на его родную планету. На оценке этого почти компьютерного сюжета, отлично закрученного ушлым журналистом Быковым, и останавливалось большинство рецензентов. Единственно, кто, на мой взгляд, по-настоящему сумел проникнуть в смысл романа, это критик Ольга Рогинская («Критическая масса». 2005. № 2). Она одна догадалась заметить, что главных героев «Эвакуатора» связывают не только любовные отношения, но и конфликт, чуть ли не поколенческий. В Игоре олицетворен новый тип в нашем обществе — человек частного права, в момент общей катастрофы считающий возможным и правильным скрыться от нее в пространстве игры для двоих. Достаточно внутри себя создать иной мир — и беды реальности, которая, по его мнению, сама виновна в разыгравшейся трагедии, потеряют власть над тобой. Катька же, по выражению критика, «человек ветхий», выступающий за старую идею нашей интеллигенции об ответственности за мир, о личной вине каждого в общем крушении, и этим она ближе Быкову, чем в самом деле «инопланетный» для него Игорь. Отдавая должное интерпретации Рогинской, ставшей неким ключом к разгадке романа, все же замечу: герои Быкова вышли у нее уж слишком цельными и последовательными типами.
Трудно не заметить сходство идеальных героев Павлова и Быкова. Юродивость, бремя ущербности в чужих глазах, искреннее «удивление жизнью» (Павлов) роднят Алексея, Катьку и Игоря. Но идеальный герой Павлова — это герой Быкова с поправкой на цельность. Если Катя чувствует себя обреченной своей юродивостью, то Алексей воспринимает себя «награжденным» ею. И, по вере их, ему в самом деле все время своеобразно везет — у нее же, кажется, весь мир валится из рук. Таким станет и Игорь, когда герои «попадут» на его планету, загубленную в его отсутствие неведомым злом. В земных же условиях Игорь исповедует правоту личной свободы и частного дела и тем временно спасен от маргинального самоощущения, в отличие от Катьки, обо всем, начиная с себя, судящей по принципу личной вины и наказания. Катька у Быкова неспокойная, катастрофичная, раздвоенная, влекущаяся к разрушению — существо же павловского Алексея стремится к покою, прихотливо избегает сомнений, которые разрушают, изводят душу.
Мотив ответственности за общий мир высветлен в героине «Эвакуатора» только в финале. Потому что только тогда он перевесит в ней противоположное стремление — почти инстинктивное влечение маргинальной личности к разрушению общего благополучия. «Ты эвакуатор, я детонатор», — говорит она Игорю. И, в самом деле, к концу романа с удивлением понимаешь, что не кто иной, как Катька, срывала все эвакуации Игоря, губила его миры, начиная с его «родной» планеты, что именно ее воображению принадлежат самые трагичные, обидные ситуации романа. Совсем в духе статей автора: Игорь — Быков-утопист, Быков-деятель, недаром ведь несущий чисто писательское бремя эвакуации людей в воображенные миры; Катька — отчаянная, это Быков, сопротивляющийся утопии, предвидящий роковой исход любого начинания.
Роман Быкова — гимн маргинальности. Начавшись как история одинокой в своей подлинности любви двоих, изолированных от общества в карантин особости, он в итоге возвышается до пафоса строчки одного из стихотворений, приложенных к роману: «Собственно, я не жалуюсь, я хвалюсь». История любви героини позволяет ей увидеть в своей непохожести на других духовную миссию избранности, которая дает ей силы выйти из убежища не только игры в эвакуацию, но и замкнутых на них двоих отношений с Игорем — выйти, чтобы «маленьким печальным солдатом» еще попробовать что-то «спасти» в ее не понарошку гибнущем мире.
Повесть Павлова, напротив, сначала поднимает героя до его идеальной вершины, а потом инерционно сбавляет обороты пафоса. Пафос Павлова, продолженный и в его критических выступлениях, — это внутреннее преодоление человеком окружающего и подавляющего его мирского зла. Окончание службы выталкивает главного героя из обители полигона, где он смог победить в самом себе мир, в обширные владения зла. Атмосфера угнетенности, неволи, подавленности, в которой персонажи Павлова тщетно пытаются распрямиться, начинает постепенно теснить чистый дух свободы и добра в Алексее Холмогорове. Его непротивление обстоятельствам и волям других людей в какой-то момент оборачивается сломленностью, карикатурно обличаемой в финале: герой, отпущенный наконец на полную свободу, вырванный из лап зависимости от других персонажей повести, предлагает свою волю первому встречному патрулю, испрашивая у него разрешения на мельчайшие бытовые действия.