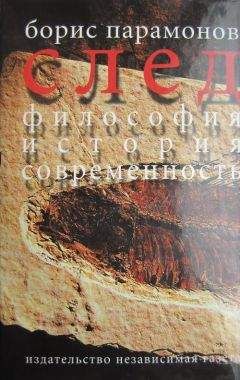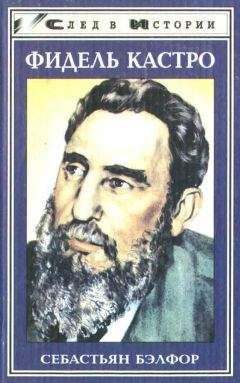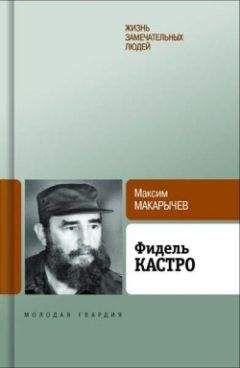И Шпенглер приводит примеры двух этих состояний в русском псевдоморфозе: религиозно-метафизического начала еще не родившейся самобытной культуры — и позднего отчаявшегося нигилизма, сочетающихся на одной почве, в одной истории — псевдоистории. Это Достоевский и Толстой. Последующие страницы, при полном их блеске, вызывают состояние, близкое к шоковому, — настолько все кажется перевернутым с ног на голову, летящим, как сказал бы Достоевский, «вверх тормашки»:
Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянин, а Толстой — человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой — это Русь прошлая, а Достоевский — будущая.
В общем-то мысль об искусственности попыток Толстого оторваться от высшей культуры, о его мужицком псевдоморфозе достаточно часто высказывалась, этим никого не удивишь. Вячеслав Иванов считал Толстого западником, сравнивал его с Сократом. Поразительно сказанное о Достоевском. Достоевский-крестьянин — это, что называется, nec plus ultra. Мы привыкли думать о Достоевском как именно горожанине в культурном смысле, и его инвективы Петербургу — городу, который однажды уйдет с лица земли с туманом (с удовольствием процитированные Шпенглером), не могли заслонить того факта (именно факта), что в Достоевском явлен новый тип русского свободного человека — фаустовски свободного. Бердяев говорил об антропологическом откровении у Достоевского. Ведь и о Достоевском можно, даже должно сказать то же, что и о Толстом, — как тот прикидывался мужиком, так Достоевский — православным почвенником. Осанна Осанной, но и нигилизма, причем именно позднего, сверхкультурного, у Достоевского хоть отбавляй. В чем тут дело? Почему Шпенглер решился на такую, что ли, стилизацию? Это становится ясным при вглядывании в основы его концепции. Конечно, и о Толстом Шпенглер нашел слова более поражающие, чем привычная мысль об искусственности его опрощения. Он поставил Толстого в ряд с большевизмом. Думается, что на Западе заинтересованные лица были достаточно удивлены. В России, однако, и эта мысль высказывалась — Бердяевым, в его статье 1918 года «Духи русской революции». Но стоит послушать и Шпенглера — пишет он не хуже Бердяева:
(Толстой) — великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он ею отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версаля. Это толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в силах освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает его отцом большевизма. <…> Толстой — это всецело великий рассудок, «просвещенный» и «социально направленный». Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой — событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом… Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономический характер, его ненависть к обществу — характер социально-этический; его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя…
Достоевский — это святой, а Толстой всего лишь революционер. Из него одного, подлинного наследника Петра, и происходит большевизм, эта не противоположность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизического социальным и именно потому всего лишь новая форма псевдоморфоза… Ибо большевики не есть народ, ни даже его часть. Они низший слой «общества», чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный неизменной ненависти…
Теперь о Достоевском. В каком смысле он святой? Вряд ли как личность — но как духовный тип. Для Достоевского
между консервативным и революционным нет вообще никакого отличия: и то и то — западное. Такая душа смотрит поверх всего социального… Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов… Что за дело душевной муке до коммунизма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности непосредственно предстоящего религиозного творчества <…> его Христос, которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием… Подлинный русский — это ученик Достоевского, хотя он его и не читает, хотя — и также потому — что читать не умеет. Он сам — часть Достоевского. Если бы большевики… не были так духовно узки, они узнали бы в Достоевском настоящего своего врага. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отправит следом и их самих тою же дорогой…
Вот это и есть пророчество Шпенглера о русском народе и дальнейших судьбах русской революции — абсолютно не сбывшееся, показавшее ограниченность его подходов. Но вот заключение о Достоевском, вообще всей главы о России:
Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, но в виду имел Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию.
Для понимания так выстраиваемой Шпенглером перспективы нужно вспомнить некоторые его основоположения. Для него постцивилизационное будущее будет вообще началом некоей новой предыстории, ходом и движением с азов. Он считает, что таким шансом начать что-то поистине новое, небывалое в доселе протекшей истории обладают именно русские, избавившиеся от петровского псевдоморфоза.
В частности, и христианство они увидят и покажут по-новому — ибо, как уже было сказано, на Западе настоящего христианства не было. Русские воплотят в новом культурном облике Иоанново христианство, говорит Шпенглер. Здесь нужно сказать о его понимании христианства вообще.
Если фаустовский человек, сила, опирающаяся на саму себя, — пишет Шпенглер, — в конечном счете принимает решения даже относительно бесконечного, если аполлонический человек, как одно тело среди многих других, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с его духовным бытием является лишь составной частью пневматического (то есть духовного. — Б. П.) «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остается повсюду одним и тем же. Как тело и душа он принадлежит лишь самому себе; однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь членом консенсуса, со-гласия, каковое со-гласие в качестве излияния божественного исключает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность его существования. Истина для магического человека — нечто совершенно иное, чем для нас… Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле, ибо воля и мысль в человеке — это уже действия, производимые в нем божеством.
Русскому читателю более чем понятно, о чем здесь написано: да о русской пресловутой соборности — теме, бывшей основной чуть ли не для всей отечественной философии, от Хомякова до С. Трубецкого, Бердяева и Бахтина. В этой теме действительно обозначена духовная ориентация русских. Хорошо это или плохо — вот эта ориентация? Для Шпенглера такого вопроса как бы не существует, он не оценивает, а описывает. Этот вопрос должны решить для себя мы сами. Но Шпенглер, конечно, в дальнейших описаниях дает богатый материал для возможных оценок.
Одной из характеристик магического сознания, как уже было сказано, является консенсус и отсюда проистекающее убеждение, что ошибки в нем быть не может, или, как пишет Шпенглер: «Поскольку община основывается на консенсусе, ошибиться в отношении духовных предметов она не способна». Он приводит слова Мухаммеда: «Мой народ никогда не может быть согласным в заблуждении». Важнейшее в магических религиях — существование Священного Текста, Слова. Коран по-арабски — «чтение». Таким Кораном претендовало быть в христианстве четвертое, Иоанново Евангелие (а русские создадут в будущем именно Иоанново христианство, пишет Шпенглер). И важнейшая черта этого Текста, Слова, Корана — та, что «единственно строго научный метод, оставляемый неизменным Кораном дальнейшему развитию мнений, — это комментирующий».
Во всем этом трудно не узнать недавнего русского — советского — прошлого. Это же марксизм играл в СССР роль такого Корана, и позволялось его только комментировать, а не развивать или, того хуже, ревизовать. А насчет консенсуса — так тут можно вспомнить не только соборность, но и, к примеру, слова Троцкого, звучавшие приблизительно так: «Партия не может ошибаться, потому что история не создала другого инструмента истины». Все это я говорю к тому, что в большевистском периоде русской истории можно усмотреть не только бунт подонков западничества, но и некую трансформацию основной русской «магической» установки. И тогда возникает сомнение в дальнейших прогнозах Шпенглера: вправду ли русские неграмотные читатели Достоевского прогонят большевиков? (Или, осовременивая вопрос, прогнали ли?) Гнать-то некуда, «чертогона» не получается, бесы — внутри, а не экспортированы Западом, и этому Западу, цивилизации вообще русским противопоставить нечего, кроме того же «консенсуса» и вытекающих из него последствий. О каком Иоанновом христианстве в будущем России можно говорить, если черты именно такого рода религиозности способствовали падению в большевистскую пропасть?