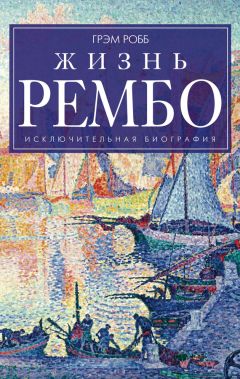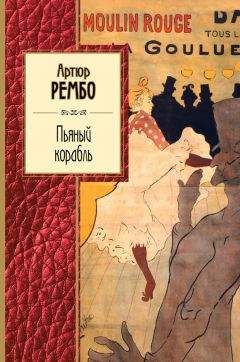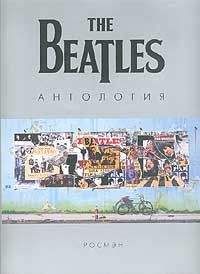Ознакомительная версия.
2. Поэт-ясновидец создаст новый «универсальный язык».
«Этот язык будет речью души к душе, он вберет в себя все – запахи, звуки, цвета. Он соединит мысль с мыслью и приведет ее в движение».
Эта эстетическая максима кажется чистой воды вымыслом, однако на самом деле это – реальное описание идиомы, которая уже развивается в сознании Рембо. Слияние различных чувств, образы закручиваются в спирали других образов вместо возврата к контролирующему «Я»: поэтический эквивалент коперниковского вращения.
3. Новая эра будет эрой необузданного интеллекта, напоминанием социалистической Утопии[175]: «Такие поэты грядут! Когда будет разбито вечное рабство женщины, когда она будет жить для себя и по себе, мужчина – до сих пор омерзительный – отпустит ее на свободу, и она будет поэтом, она – тоже! Женщина обнаружит неведомое! Миры ее идей – будут ли они отличны от наших? Она найдет нечто странное, неизмеримо глубокое, отталкивающее, чарующее. Мы получим это от нее, и мы поймем это».
4. Чтобы подчеркнуть новизну своей схемы, Рембо закончил высокоскоростной историей литературы, состоящей из 600 слов, от Античности до современности. Это было повествование о глупости, лени и случайных озарениях. С конца золотого века поэзия была не чем иным, как «рифмованной прозой, игрой, дородностью и славой бесчисленных поколений идиотов». Пустой тратой сил.
Романтики первого поколения были ясновидцами, не очень хорошо отдавая себе в этом отчет: обработка их душ начиналась случайно. Парнасцы пытались оживить античный труп греческой поэзии, у Гюго, «слишком упрямой башки, есть ясновидение в последних книгах: «Отверженные» – настоящая поэма».
«Второе поколение романтиков – в сильной степени ясновидцы. […] Но исследовать незримое, слышать неслыханное – это совсем не то, что воскрешать дух умерших эпох, и Бодлер – это первый ясновидец, царь поэтов, истинный Бог. Но и он жил в слишком художническом окружении. И форма его стихов, которую так хвалили, слишком скудна. Открытия неведомого требуют новых форм».
История заканчивалась помойкой второсортных поэтов. Рембо поделил всех парнасцев на издевательские категории: «невинные», «ученики», «мертвые и имбецилы», «журналисты», «представители богемы» и т. д. Лишь двое из них были классифицированы как «ясновидцы» – забытый парнасец по имени Альбер Мера[176] и Поль Верлен, «настоящий поэт».
Несмотря на все его оскорбления, «Письмо ясновидца» – это захватывающий образчик литературной критики, удивительно правдоподобная попытка примирить две антагонистические тенденции поэзии XIX века: «буржуазную» веру в бесконечный технический прогресс и духовные устремления романтиков. Для Бодлера поэзия стала источником утешительных иллюзий. Для Рембо эти мерцающие иллюзии в один прекрасный день объединятся в социальную действительность. Поэзия не просто будет идти в ногу с реальностью, «она ей будет предшествовать».
Большая часть письма не была воспринята Демени должным образом. Способность Рембо приходить в восторг от анекдотичных вещей пахла розыгрышем. Каждый всплеск серьезности сопровождался веселой иронией, которая показывает, каким умиротворенным он может быть, даже в качестве проповедника. Самородки точности были поглощены чудесными готическими видениями поэта, такими как Прометеев Сатана, Романтический Люцифер, чья роль заключается в том, чтобы спасти человека от Бога: «великий инвалид, великий преступник, великий проклятый и Верховный Мудрец!».
«Ведь он достигает неизведанного… и даже если в панике он теряет способность понимать собственные видения, по крайней мере, он их видел! И если ему суждено надорваться в своем устремлении к неслыханному и не имеющему названия – придут другие труженики».
Готовность Рембо принимать серьезно собственный разум не следует недооценивать. Он все еще пытается разрешить дилемму, которую он поднял в стихотворении «Офелия»: чтобы попасть в «неизведанное», поэт должен лишить себя индивидуальности; но без этой индивидуальности как можно постичь эти видения? Как может быть «расстройство» психики согласовано с «благоразу мием»?
Если и существует какая-либо неискренность в этом письме, то она заключается в обыденных мелочах. Он подписал письмо с намеком, что собирается поехать и присоединиться к своим собратьям-анархистам в Париже. Но поскольку периметр обороны был прорван мстительной правительственной армией и поскольку Коммуна явно была обречена на провал, это, возможно, была просто хитрость, чтобы добиться быстрого ответа от Демени[177].
Рембо не поехал в Париж. Через несколько дней после того, как он написал свое письмо, Коммуна была уничтожена правительственными войсками. Это была самая кровавая неделя в истории Франции: жестокое унижение пролетариата. Тысячи людей были расстреляны, подверглись неумелым пыткам или были отправлены на каторгу без надлежащего судебного разбирательства. Женщин, несущих бутылки по улице, закалывали штыками солдаты, которые были наслышаны о мифических бомбометателях pétroleuses. Во время Semaine Sanglante («Кровавой недели») погибло больше людей, чем во время террора или Франко-прусской войны[178]. Нет никаких доказательств тому, что Рембо был особенно расстроен поражением французского социализма. В своем письме к Изамбару он противопоставлял себя «трудящимся», которые умирали в Париже: «Работать сейчас? Никогда, никогда. Я бастую». Коммуна была примером. Она доказала, что самые экстраординарные понятия могут превратиться в реальность. В повседневной жизни ничего не изменилось. Никакая Народная Республика не могла вырвать Шарлевиль из его апатии. «Свинцовоголовая администрация» мадам Рембо была по-прежнему в силе.
Теперь он погрузился (как он выразился три месяца спустя) в свой «отвратительный, неуместный, упрямый и таинственный труд, отвечая на расспросы и грубые злобные замечания молчанием, и вел себя с достоинством в своем не поддающемся действию закона положении».
Не было никаких внешних признаков того, что Рембо занимался чем-то, что может быть названо «работой». По утрам в будние дни через окна столовой мальчики и учителя видели былую славу коллежа – Рембо, бегущего вприпрыжку через площадь в облаках черного дыма из глиняной трубки, чтобы успеть к открытию публичной библиотеки. Волосы спадают ему на воротник. Длинные волосы означали художественные притязания. Для Рембо это было важной частью его «мученичества». Над ним издевались в городе и забрасывали камнями крестьяне в деревне, где теперь жил Делаэ, но он отказывался идти другой дорогой. По вечерам он развлекал «идиотов» в кафе. Годы спустя один чиновник вспоминал, что был вынужден выслушать теорию Рембо относительно того, что делать с gêneurs – людьми, чья основная функция в жизни заключалась в том, чтобы мешать кому-то более способному наниматься на работу. Решение: медленно пытать их до смерти.
Рембо все еще надеялся найти синекуру в Париже, но с Изамбаром он полемизировал, а Демени оказался бесполезным – или почти. Когда Рембо писал ему в июне, он просил прислать ему книгу Демени Les Glaneuses («Сборщицы колосьев»), «которую я хотел бы перечитать и которую я не могу купить, потому что моя мать не соблаговолила дать мне ни одного ломаного гроша за последние шесть месяцев». Год назад он говорил Изамбару, что он так отчаянно нуждался в книгах, что даже перечитал Les Glaneuses Демени… Дополнительный экземпляр, очевидно, предназначался для книжной лавки, торгующей подержанными книгами.
К тому времени, как он написал Изамбару 12 июля, французская поэзия вошла в коммерческую номенклатуру путешественника. Даже ясновидцам нужны деньги. Рембо задолжал книготорговцу 33 франка – «огромный долг»[179].
Его мать, возможно, пыталась использовать это обстоятельство против него и заставить его найти работу в Шарлевиле. «Желаешь крепко держаться за Les Glaneuses? Школьники Арденн могли бы раскошелиться на 3 франка, чтобы бесцельно потратить время под их лазурными небесами».
«Я знаю, как убедить скупого лицемера [книготорговца], что покупка такого собрания принесет поразительную прибыль. […] Уверен, у меня хватит позорного бесстыдства, чтобы преуспеть в этом второсортном бизнесе. […] Если у тебя есть публикации, которые неприлично держать на полке учителя, и ты случайно их заметил, не сомневайся. Но, пожалуйста, поскорее!»
Эта «постыдная» мелочная торговля трудами других поэтов является точным коммерческим эквивалентом творчества Рембо. Немногие поэты когда-либо получали столь щедрую прибыль от плохих стихов.
«Сборщицы колосьев» Демени – типичный пример умеренности, против которой выступал в своих стихах юный ясновидец. Влияние Демени на Рембо очевидно, хотя лирика подобной стилистики устарела еще тридцать лет. В поэтическом мире Демени, как в резервации, в атмосфере уютной приятности по-прежнему порхают колибри, плещутся «серебряные озера». В нынешнем же Дуэ лирическая поэзия «убита паром». Впрочем, и в стихах Демени проступают реалистичные детали промышленной революции: темные фабрики и «жалкие парии» (городская беднота). Грубый мир намерен лишить поэта невинности, он оплакивает судьбу «непорочных дев», которые заканчивают жизнь проститутками или матронами. Подобная реалистичность привносит в его поэзию несообразность.
Ознакомительная версия.