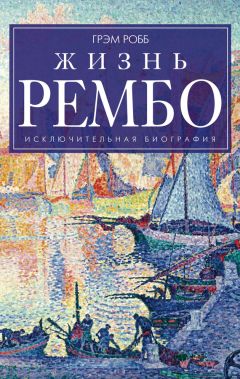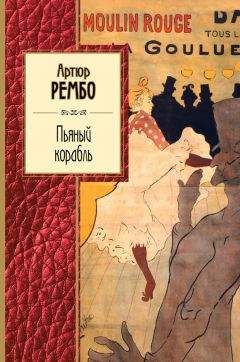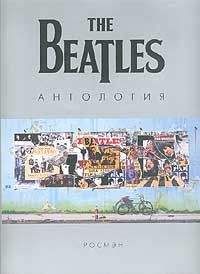Ознакомительная версия.
Являются ли эти стихи «исследованиями», проводимыми в рамках программы подготовки Рембо, или нет, но они обладают тем же кощунственным духом, что и «Письмо ясновидца». Поэт предстает Франкенштейном, кромсающим не плоть, но словарь. Он сшивает его стежками сарказма, отбрасывая все нерациональное. Человек Рембо – отталкивающий объект: средоточие обильной растительности; ничтожная совокупность бедер, темени, лопаток и чрева; жертва головной боли, тромбов, приливов, рахита, вшей и насморка – монстр в форме философского вопросительного знака: если Человек был создан по образу Божьему, тогда на что похож Бог? Его неологизмы, варваризмы, жаргонизмы, дисгармоничный синтаксис – прямая насмешка над языком салонов и великосветских гостиных. Идиоматика – драматическое доказательство того, что социальные различия в новой Франции столь же ядовиты, как и всегда. Язык Рембо также был выражением его гибридных корней: городских и сельских, буржуазных и крестьянских. Нечто в этих разрушительных стихах указывает на то, что их лирический герой не так уж несчастен «задыхаться» в Шарлевиле. Несмотря ни на что, поэт не отказывается от «наследства».
Ты никуда не отправишься.
Дурная кровь, Одно лето в аду
По мере приближения конца лета мадам Рембо делала все возможное, чтобы жизнь кажущегося бездельником Артюра стала невыносимой. Принято считать, что он сам отчаянно рвался в Париж; однако нервное письмо, которое он написал Демени 28 августа 1871 года, свидетельствует о том, что заслуга начала его карьеры принадлежит пинку мадам Рембо.
До сих пор он говорил Демени[183], что все попытки приговорить его «к тяжкому труду в Шарлевиле» не удались: «Найди работу к определенному сроку, – сказала она, – или убирайся вон! Я отказался без объяснения причин. Из моих объяснений не вышло бы ничего хорошего. […] Но теперь она дошла до того, что надеется на мой необдуманный отъезд – мой побег! Неимущий и неопытный, я бы в конечном итоге оказался в исправительном заведении, и больше обо мне никто не услышит! Это кляп отвращения, который втиснули мне в рот».
Мадам Рембо решила, что Артюр может все-таки жить своим пером, по крайней мере, до тех пор, пока не вырастет. Любая профессия лучше никакой. Дверь темницы была открыта.
Двумя неделями ранее, 15 августа, Рембо восстановил связь с литературным Парижем, но в манере, которая вряд ли была предназначена для завоевания друзей. «Слабоумный», который отправил парнасские стихотворения Теодору де Банвилю в мае 1870 года, теперь предлагает «мэтру» пространное произведение под названием Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs («Что говорят поэту о цветах»). Он подписал письмо «Альсид Бава» («Слюнявый Геркулес»), намекая на отвратительного вундеркинда[184]. «В прошлом году мне было всего семнадцать! – лгал он. – Есть ли у меня прогресс?»
Это был риторический вопрос. На самом деле вопрос был таким: что же означают эти стихи? С первой строфы они звучали как серия оскорбительных шуток:
Итак, когда лазурь черна
И в ней дрожат моря топазов,
Ты все проводишь вечера
Близ Лилий, этих клизм экстазов.
В наш век растений трудовых
Пьет Лилия в немалой дозе
Сок отвращений голубых
В твоей религиозной Прозе.
Сонет, что сорок лет назад
Написан; дар для Менестреля
Из лилий, радующих взгляд,
И лилия месье Кердреля.
[…]
Поэты, уж такой ваш нрав:
Дай розы, розы вам, чтоб снова
Они раздулись до октав,
Пылая на стеблях лавровых.
Чтоб чаще на своем веку
Банвиль, предавшись вдохновенью,
В глаза швырял их чужаку,
Не расположенному к чтенью!
Ключ к намерениям Рембо можно найти в несносном стихотворении, которое он не так давно представил в местную республиканскую газету Le Nord-Est («Северо-восток»). Оно предположительно написано от лица сварливого старого монархиста, жалующегося на либералов, но кисть сарказма была столь широка, что она также вымазала дегтем и редактора газеты: «Когда я вижу ваших читателей, вы, клоун, играетесь (руками) своим грязным органом…» Это был прекрасный пример оскорбления посредством преувеличенного соглашательства. Редактору хватило ума не принять его[185].
Ода Рембо Банвилю тоже была двуликой. Поначалу кажется, что ее лирический герой это – либерально настроенный обыватель:
Повсюду лилии! О, страх!
Как рукава у Грешниц нежных,
Трепещут у тебя в Стихах
Букеты лилий белоснежных!
А утром свежим ветерком
Рубашка у тебя надута,
И запах незабудок в нем
Тебе противен почему-то!
В твои владенья с давних пор
Амур одну сирень впускает,
Ну и фиалку с ней – о, вздор! –
Ту, что в лесах произрастает.
В те непростые времена не принято было посвящать стихи бесполезной красоте. Следовало писать о важных вещах, таких как фитофтороз картофеля или применение гуано. Действительно, поэты нередко прибегали к сельскохозяйственной тематике. Эпические поэмы посвящали свекле. Но Рембо явно не волновало сельское хозяйство:
Да! В поле он иль меж страниц,
С цветком решение простое:
Не стоит он помета птиц,
Слезинки на свече не стоит.
Здесь маска начинает соскальзывать: это Артюр Рембо, замаскированный под психопата-буржуа, мечтающего о прогрессе совсем иного рода – сверхъестественной вселенной ясновидца:
Найди у края мглы лесной
Цветы, что с мордой зверя схожи
И чьею золотой слюной
Прочерчен след на бычьей коже.
В лугах, не знающих границ,
Найди раскрытые бутоны,
Где сотни огненных яиц
В эссенциях кипящих тонут.
Найди чертополох, чью нить
Десяток мулов неустанных
Начнут вытягивать и вить!
Найди цветы, что стулом станут!
Найди в глубинах черных руд
Цветы из камня – всем на зависть! –
Цветы, чьи железы идут
От горла в спекшуюся завязь.
Подай нам, о веселый Сноб,
В великолепной красной чаше
Из лилий приторных сироп,
Вгрызающийся в ложки наши.
Если Рембо все еще надеялся на поощрение парнасцев, то претендовал он на особую роль поэта, который придет, чтобы вымести из салонов викторианский стих и сжечь их пыльные букеты и фикусы – символы мещанского благополучия. Стихотворение датировано 14 июля 1871 года: днем взятия Бастилии. С Коммуной покончено, но революция жива. Банвилю не мешало бы лучше следить за своими лаврами.
Две недели спустя находящийся под угрозой выселения Рембо пересмотрел свое поведение. Две возможности пришли ему на ум. Либо Демени может помочь ему найти одну из тех работ, «которая будет не слишком много от него требовать, поскольку мыслительный процесс требует больших затрат времени». Либо – предпочтительнее – кто-то сможет вызвать его в Париж и профинансировать его ясновидческий проект.
Часы безделья Рембо в кафе Дютерм вот-вот принесут свои плоды. Один из наиболее приметных завсегдатаев кафе – огромный, невозмутимый, напоминающий Генриха VIII кисти Гольбейна Шарль Бретань, тридцатичетырехлетний «чиновник косвенного налогообложения» на местном сахарном заводе, прозванный друзьями «первосвященником», обладал пространной эрудицией, почерпнутой отнюдь не из книг. Его особенно интересовало то, что может раздражать священников, врачей и профессоров университета, – варварство вне адриановской стены академии: магия, алхимия, гомеопатия и телепатия. Его последним увлечением был Артюр Рембо[186].
Как правило, сквернословящий маленький гений сидел за своим столом в полном молчании, пыхтя трубкой и сердито глядя исподлобья. Бретань и его друг, Леон Деверьер – веселый республиканец, преподаватель философии в одном из учебных заведений Шарлевиля, – пытались откупорить волшебную бутылку. Они приглашали его на музыкальные вечера в доме Бретаня, которые иногда заканчивались в борделе. Они потчевали его пивом, табаком, девицами и журналами и позволяли ему пользоваться своими адресами для переписки. Взамен Рембо показывал им свои стихи и даже уступал настояниям и декламировал их.
Подобная цветку чувствительность Рембо к непосредственному окружению, как правило, ассоциируется лишь с его верленовским периодом 1872 года, но благодарная более старшая аудитория кафе Дютерм, конечно, способствовала акцентированию на его склонностях к комизму и антиклерикализму. Его последние шарлевильские стихи все еще несут на себе слабый отпечаток хихикающих лиц, которые впервые наслаждаются ими.
В отличие от суетного Изамбара и бесполезного Демени Бретань был заинтересован в том, чтобы обеспечить Рембо более широкой аудиторией. Узнав о его затруднительном положении, он рассказал ему об одном парижском поэте, с которым он познакомился в Фампо близ Арраса, в доме сахарозаводчика.
Его звали Поль Верлен.
Это была потрясающая новость. В каталоге недееспособных лиц Рембо Верлен был единственным живым «ясновидцем». Бретань предложил добавить личные рекомендации, если Рембо решит ему написать. Спустя несколько мгновений Делаэ уже сидел с кружкой пива за самым большим столиком кафе Дютерм и переписывал несколько лучших стихов Рембо печатными буквами («Потому что, – говорил Рембо, – так их можно прочесть быстрее, и это больше похоже на печатный текст»).
Ознакомительная версия.