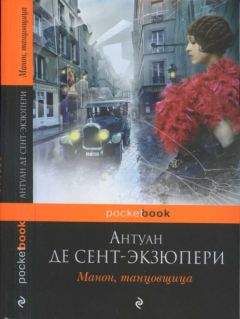И деревенские праздники, и обычай чтить умерших (пишу об этом потому, что после моего приезда тут разбились трое парашютистов, но о них сразу и думать забыли: ведь они выбыли из строя). Дело уже не в Америке, но в эпохе: человек больше ничего не значит.
А с людьми говорить необходимо. Что толку выигрывать войну, если потом мы сто лет будем биться в припадках революционной эпилепсии! Когда наконец разрешится немецкий вопрос, перед нами одна за другой встанут подлинно важные для человека задачи. И едва ли после этой войны довольно будет спекулировать американскими товарами, чтобы отвлечь людей от их подлинных забот, как это было в 1919 году. За неимением мощного духовного потока начнут плодиться и поедом есть друг друга десятки партий и сект. Марксизм — и тот, обветшав, распадется на множество противоречивых немарксистских течений. Это было очень наглядно в Испании. Либо какой-нибудь французский Цезарь засадит нас до скончания века в неосоциалистический концлагерь.
Какой странный сегодня вечер, как странно все вокруг. Сижу у себя и смотрю, как вспыхивает свет в окнах безликих, одинаковых домов. И слышу, как радио поставляет дешевую музыку праздной толпе, нахлынувшей сюда из-за океана и не способной даже тосковать по родине.
Кто-нибудь, пожалуй, примет это покорное примирение с действительностью за самоотречение, за нравственное величие. И сильно ошибется. Нити любви, связующие ныне человека с другими людьми и с вещами, слишком слабы, слишком непрочны, и человек уже не страдает от разлуки, как бывало в старину. Словно в том страшном еврейском анекдоте: «Ты уезжаешь? Как ты будешь далеко!» — «От чего далеко?» То, что они покинули, было для них только суммой привычек. В наш век — век разводов — люди так же легко расстаются и с вещами. Один холодильник ничего не стоит заменить другим. И дом тоже, если он всего лишь набор удобств. А жену? А веру? А партию? Тут даже нельзя быть неверным: чему будешь неверен? От чего далек и чему неверен? Человек стал пустыней.
До чего же они благоразумны и невозмутимы, эти люди толпы. А я вспоминаю о бретонских моряках, что причаливали некогда в Магеллановом проливе, о воинах иностранных легионов, в чьи руки отдавали города, о спутанных в тугой узел жадных страстях и нестерпимой тоске, — такими всегда были мужчины, согнанные в кучу, стиснутые суровыми рамками солдатчины. И всегда, чтобы держать их в узде, требовалась крепкая жандармерия, крепкие нравственные устои либо крепкая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении простой пастушке. А сегодня человека усмиряют игрой в карты — в белот или в бридж, смотря по тому, из какой он среды. Просто чудо, как нас оскопили. И вот наконец мы свободны. Нам обрубили руки и ноги — теперь мы вольны шагать куда вздумается. Но я ненавижу наш век, когда, под гнетом всеобщего тоталитаризма, человек становится тихой, смирной и послушной скотинкой. А нам внушают, что это — нравственный прогресс… Для марксизма человек — производитель материальных ценностей, а главная задача — их распределение. Совсем как на образцовых фермах. В нацизме я ненавижу тоталитаризм, ибо он тоталитарен по самой сути своей. Рабочим Рура предлагают на выбор Ван Гога, Сезанна и лубочную картинку. Естественно, они выбирают лубок. И это истина народа! Будущих Сезаннов, будущих Ван Гогов, людей крупных, самобытных, чуждых приспособленчества, загоняют в концлагери, а покорное стадо пичкают лубочными картинками. А куда идут в наш век бюрократии Соединенные Штаты, да и мы тоже? Человек становится роботом, термитом, вся его жизнь проходит между работой у конвейера и игрой в белот. Человек оскоплен, лишен творческой мощи, в деревне уже некому создать песню или танец. Человека кормят стандартной культурой массового изготовления, как быка сеном. Таков он, современный человек!
А я думаю: и трехсот лет не прошло с тех пор, как писали «Принцессу Клевскую» или до конца жизни затворялись в монастыре из-за несчастной любви — так сильно, так пламенно тогда любили. Разумеется, и сегодня люди кончают самоубийством. Но их страдания сродни зубной боли. Невыносимо. Но ничего общего с любовью.
Конечно, это лишь начало. Мне нестерпима мысль, что в жертву германскому Молоху приносят все новые поколения французских детей. Под угрозой сама плоть и кровь страны. Но когда она будет спасена, придется решать важнейшую задачу, коренной вопрос современности. Вопрос о предназначении человека. Ответа ни у кого нет, и, мне кажется, наступают такие беспросветные времена, каких еще не знала история.
Мне все равно, если меня убьют. Что уцелеет после войны от всего, что я любил? А мне дороги не только люди, но и обычаи, и неповторимые интонации, и некий духовный свет. Завтрак под оливами на провансальской ферме-и Гендель. Мне плевать, что уцелеют вещи. Важна определенная связь между вещами. Культура — не в вещах, но в незримых узах, которые соединяют их между собой именно так, а не иначе. У нас будет вдоволь отличных музыкальных инструментов массового производства, но что станется с музыкантами?
Возможно, меня убьют, наплевать. Возможно, меня разнесет в клочья взбесившаяся летучая торпеда — эти махины уже не имеют ничего общего с настоящим полетом и самого летчика, втиснутого меж кнопками и циферблатами, превращают в какую-то счетную машину (а ведь полет тоже — особая связь и порядок вещей). Но если с этой «необходимой и неблагодарной работы» я вернусь живым, передо мною встанет лишь один вопрос: что можно, что нужно сказать людям?
Все меньше понимаю, почему я Вам все это рассказываю. Наверно, просто тянет с кем-то поделиться, хотя никакого права на это у меня нет. Надо беречь чужой покой и не путать совсем разные вопросы. Сейчас очень хорошо, что мы стали живыми счетными машинами на борту военных самолетов.
Пока я Вам пишу, двое моих товарищей по комнате уже уснули. Надо и мне лечь, боюсь, что лампа им мешает (очень мне трудно без своего угла).
Оба моих товарища на свой лад прекрасные люди. Воплощенная прямота, благородство, чистота, верность. А я почему-то смотрю на них, спящих, с какой-то бессильной жалостью. Они сами не знают, чего им недостает, а я очень это чувствую. Да, они прямые, благородные, чистые, верные, но при этом до ужаса нищие. Им так нужен хоть какой-то бог. Простите, если дрянная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала спать и Вам, и верьте, что я Ваш друг.
Антуан де Сент-Экзюпери
Перевод с английского Анны Таривердиевой
«New-York Times», 22 апреля 1945 г.
Обращение Сент-Экзюпери к американским читателям, выражающее надежду на прочный мир с США
Во время вчерашнего эфира на радиоканале «Columbian Broadcasting System network» французский киноактер и патриот Чарльз Боэр поднял тему франко-американского содружества, зачитав отрывок из эссе своего соотечественника Антуана де Сент-Экзюпери. Эссе было написано накануне разведывательного полета, из которого писатель так и не вернулся.
Вот отрывок, прочитанный мистером Боэром:
«Мои американские друзья, я призываю вас быть в высшей степени справедливыми. Возможно, настанет день, когда между нами встанут серьезные разногласия. Всем нациям свойственно себялюбие, которое они считают священным. Быть может, однажды между нами возникнут крупные споры, и вам придется использовать собственную силу против нас. Но хоть войну и выигрывают солдаты, все же иногда мирный договор диктуют бизнесмены.
И даже если когда-нибудь мне придется осуждать решения этих мужей, я никогда не забуду благородства ваших целей на этой войне.
Я неизменно отдаю должное глубине ваших чувств.
Оглянитесь, друзья, мне кажется, что-то новое зарождается на нашей планете. Современная жизнь соединяет всех нас, образуя подобие нервной системы с бесчисленными контактами и мгновенно возникающими связями. Мы, как клетки, являемся частицами одного тела. Но у этого тела пока еще нет души. Этот организм еще не осознал себя. Бесполезна рука, не принимающая сигналы от глаз.
Ваша молодежь гибнет на войне, и впервые в истории эта война может стать для них своеобразным опытом любви. Не предавайте их! Позвольте им продиктовать мирный договор, когда придет его день! Они сделали эту войну благородной. Дайте же им облагородить и мир!»
Перевод с французского Юлии Гинзбург, Марины Баранович
Предисловие к книге Мориса Бурдэ «Радости и печали ремесла летчика»
Около двух часов ночи, когда самолет с дакарской почтой берет курс на Касабланку, темный кожух мотора располагается среди звезд, названия которых я не знаю, — чуть правее ручки Большой Медведицы. По мере того как эти звезды поднимаются к зениту, заменяешь их другими, чтобы не приходилось слишком запрокидывать голову: меняешь советчиков. И постепенно, производя капитальную чистку видимого мира, выметая из него все, кроме звезд, царящих над черными песками, ночь производит такую же генеральную уборку в сердце. Все мелочные заботы, казавшиеся первостепенными — вражда, неутоленные желания, зависть, — все исчезает, и из глубин поднимаются действительно важные заботы. И тогда, час за часом спускаясь по этой звездной лестнице к рассвету, чувствуешь себя чистым.