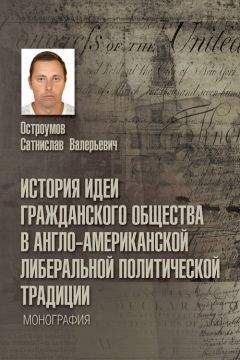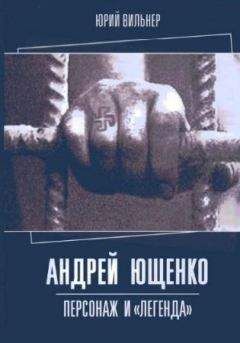В шестнадцатой главе трактата Толстой пишет, что религиозное сознание (понимание смысла жизни, высшего блага, к которому стремится общество) всегда ясно выражено некоторыми людьми этого общества и более или менее чувствуемо всеми. Если нам кажется, что в обществе нет религиозного сознания, то это оттого, что мы не хотим видеть его.
" В каждом великом русском писателе мы различаем черты святого" — пишет Вирджиния Вулф. Платонов не соглашается с ней: "святость есть утрата жизни, утрата и божественного". Он дополняет мысль, Достоевского из "Дневника писателя" ("мы не станем и отстаивать таких святынь, в которые перестали верить сами… ни одна святыня наша не побоится свободного исследования"): "слишком большое количество неприкосновенных святынь сковывает жизнь". Это дополнение стало известно нам из донесения оперативного сотрудника НКВД от 23.12.1936.
Авторы Канона в основном — "непрофессионалы": боевые офицеры Чаадаев и Толстой, провинциальный учитель Федоров, врач Чехов, купец Станиславский, домашняя хозяйка Марина Цветаева, родившая трех детей, паровозный машинист Платонов. Они — участники. Платонов говорил: "Чувства рождаются не из наблюдения и изучения, а из участия". Наблюдающие и изучающие чаще всего оказываются вне Канона.
Цветаева пишет, что у Бунина "никакого, вчистую" влияния ни в России, ни за границей не было ("я его не люблю: холодный, жестокий, самонадеянный барин"). О. Л. Книппер — Чехову, о Бунине: "И мило, и поэтично, и звучно, а как начнешь разучивать, разбираться — пусто". То, что составляет наслаждение для писателя Набокова, непонятно как наслаждение для большинства и вызывает недоумение или презрение. "Лолита" позволила ему жить в гостинице, для воспитания вышколенных слуг потребовалось бы слишком много времени. Цветаева о Мандельштаме (1926): "Не-революционер до 1917 г., революционер с 1917 г. — история обывателя, негромкая, нелюбопытная. За что здесь судить? За то, что Мандельштам не имел мужества признаться в своей политической обывательщине до 1917 г., за то, что сделал себя героем и пророком — назад, за то, что подтасовал свои тогдашние чувства, за то, что оплевал то, что — по-своему, по-обывательскому, но все же — любил… Шум времени Мандельштама — оглядка, ослышка труса. Правильность фактов и подтасовка чувств".
В год столетия Платонова большинство толстых литературных журналов ("Новый мир", "Знамя" и т. п.) не напечатали ни одной строчки о Платонове. Литераторы обнаружили, что коммунизм Платонова не имеет ничего общего с коммунизмом, который они прославляли или обличали.
Именно литераторы заставили Цветаеву написать заявление с просьбой о предоставлении ей места посудомойки в писательской столовой, обещая рассмотреть его на своих заседаниях. Именно они, а не мифическая советская власть, не печатали ее текстов ни здесь, ни за границей. Именно Литературный институт, а не мифическая советская власть, захватил квартиру, в которой жил и умер Платонов, и организовал там пункт обмена валюты. "Платонов мне не близок",— говорит зав. кафедрой критики. Год столетия Платонова завершился пикетом Литературного института с требованием его закрытия.
Но вернемся к началу ХIХ века, в детство Чаадаева.
В Щербатовском семействе, у дяди, играют представление по случаю тильзитского мира. Чаадаев исчез; его отыскали в поле, во ржи. Он, плача, объявил, что не вернется. Не хочет присутствия при праздновании события, которое есть пятно для России и унижение для государства. Тогда же ходила по рукам немецкая реляция об аспернском сражении и было приказано отобрать ее повсеместно. Когда к братьям Чаадаевым приезжал за нею сам полицмейстер, тринадцатилетний Петр Яковлевич, отдавая реляцию, поставил ему на вид, что недостойно раболепствовать Наполеону и скрывать его неудачи. Выходит, истоки Русского Канона теряются в предыдущих веках.
"Хочу изменить исторический курс своего рода-племени", — говорит у Платонова Демьян Фомич, мастер кожаного ходового устройства; предки которого — сплошные сапожники — четыреста лет наращивали стаж и квалификацию. Один из них, Никанор Тесьма, шил сафьяновые полусапожки Иоанну Грозному; другой дожил жизнь в Москве, перейдя стариком на валенки. В 1812 году, во время нашествия Наполеона и народов Европы, жил дед Демьяна Фомича по прозвищу Серега Шов, великий мастер и изобретатель пеших скороходов, сподвижник Барклая-де-Толли. Один отступал, другой шил сапоги впрок, чтобы было в чем наступать в свое время. В этом роду скопилось столько мозговой энергии, что она неминуемо должна была взорваться.
— Уйду с обужи на другое занятие, будочником на Уральскую железную дорогу, буду жить в степи. Хочу написать сочинение — самое умное — для правильного вождения жизни человека. И чтобы это сочинение было, как броня человеку; а сейчас он нагой. В будке будет тихо, кругом сухие степи, делов особых не будет.
Это будет крик мудреца, молчавшего 400 или 500 лет. Его мысль будет необыкновенной и праведной — столько лет скапливался и сгущался опыт и мозг стольких людей!
Во второй части "Записки" Федоров подробно перечисляет задатки (их десять), вследствие которых проект возник именно в России. Один из них — географическое положение и природные условия: "Глушь, окаймленная полуостровами и островами, бойкими местами, из которых бойчее всех Англия". На что обратил внимание еще Чаадаев: "Разительная вещь — беспрестанное скаканье этого народа! В некоторых улицах Лондона не надивишься! Изо всякого трактира ежечасно по нескольку десятков карет всех возможных видов отправляется во все части государства и в окрестности столицы — одна другой лучше и забавнее".
Указание на климат подчеркивает элемент неслучайности. "Россия — народ по преимуществу земледельческий и, следовательно, по преимуществу мирный, — пишет Федоров, — из серого неба мы не могли сделать себе идола". В этих просторах человек теряется, он — раб природы, жалкий обитатель ничтожнейшей по величине земли. Природа как бы закаляет человека. Чехов удивлялся выносливости помещиков: однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, гробовая тишина днем и ночью. Чехов — Суворину: "Сегодня я гулял в поле, по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне".
"Если бы поход Наполеона был удачен, дело отеческое погибло бы и судьба земной планеты была бы иной",— пишет Федоров. Потом его защищали в сорок первом. "Помни — смерти нет, если мы отстоим нашу родину, где живет истина и разум всего человечества". (Платонов, "Оборона Семидворья").