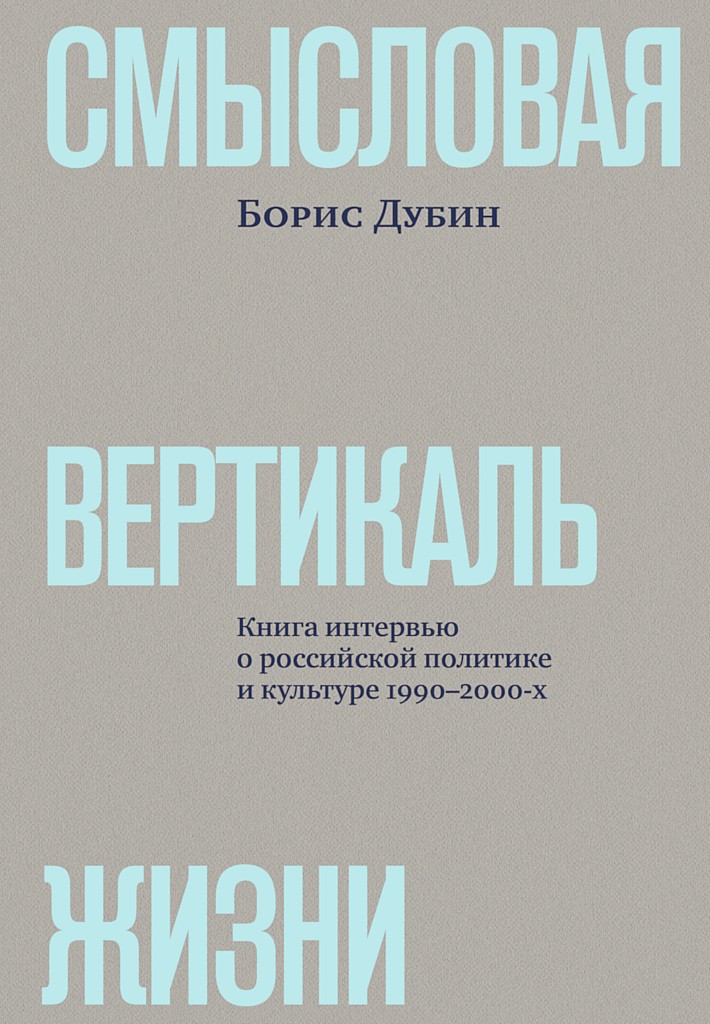власти наши люди стали другими, и это уже не изменить»).
С тем, что большинство приняло роль дистанцированных зрителей, самоустранилось от ответственности за происходящее и будущее. Роль как бы отсутствующих, нечто вроде алиби — едва ли не преобладающая форма социальности в нынешней России. «Не знал, не участвовал, не успел разобраться» — так сегодня отвечает большинство на вопросы о событиях 1989–1991 годов. Но точно так же отвечали сограждане и на «внезапно открывшуюся» при Хрущеве информацию о массовых сталинских репрессиях. И так же они отвечают на вопросы о процессе над Ходорковским и Лебедевым: доля воздержавшихся от суждений на эту тему доходит до 60 %, хотя в 2003-м процесс вошел в первую десятку важных событий года (теперь не входит). Ничего не слышали о процессе раньше 3–4 % россиян, теперь — 18 %. При этом никаких сомнений в том, «кому выгодно», ни у кого нет: 63 % опрошенных отвечают — предпринимателям, близким к власти, продажным судьям. Это не маргинальное, а одно из центральных событий, и именно как главное оно замалчивается и вытесняется.
Область «высокого» задается и принимается массой как предельное по масштабам национально-державное «мы», противопоставленное столь же предельному «они» (чужаки — этнические, расовые, политические, цивилизационные и т. д.). Другие формы больших общностей воспринимаются как «низкие» и служат или для выражения сиюминутной реакции на нечто, или для адаптации. Принадлежность к такой общности предполагает некую социальную стигму: бедные, пенсионеры, бюджетники, инвалиды, обманутые вкладчики, жертвы дедовщины в армии и т. д.
Но разве именно с таких объединений не начинаются горизонтальные связи в обществе, взаимопомощь, первые признаки гражданского общества?
Нет, не начинаются. Эти общности существуют вне политики, здесь не происходит соединения идей, коллективных интересов и символов — то, что могло бы придать им социальную форму и устойчивость.
Фактически централизованная власть приняла форму привычной для большинства россиян иерархической пирамиды с единоличным (в крайнем случае двуликим) начальником во главе. За двадцать послеперестроечных лет ни руководители бизнеса, ни политические партии, ни выборные власти, ни менеджеры медиа, ни академические сообщества, ни так называемые деятели культуры не стали сколько-нибудь независимыми и авторитетными силами, которые могли бы ограничивать нынешнюю правящую группировку в ее поползновениях целиком сосредоточить в своих руках основные ресурсы и полностью контролировать любые проявления чьей бы то ни было коллективной воли.
Установка власти в этом совпадает с установкой населения, которое с большим недоверием относится ко всякой общественной (и особенно общественно-политической) деятельности и убеждено, что главная задача таких организаций — сотрудничать с властью, помогать ей (только 20 % россиян сегодня считают, что общественные организации должны защищать права и интересы граждан). Сами они в трудной жизненной ситуации рассчитывают в основном на помощь родных и друзей (около 60 %); на помощь родного предприятия — 5–2 %, на поддержку государства — 3–4 %, на помощь общественных организаций — меньше 1 %. В деятельности таких организаций принимает участие не более 3 % взрослого населения страны. Для сравнения: в середине 1990-х годов 82 % американцев, 68 % граждан ФРГ, 53 % британцев и 39 % французов, по их заявлениям, состояли членами какой-то общественной организации. Работали в них бесплатно 60 % в США, 31 % — в Германии, 26 % — в Великобритании, 35 % — во Франции.
Значит, все мы вместе только как граждане великой державы — не то бывшей, не то будущей?
До 40 % взрослого населения России хотели бы сейчас видеть свою страну великой державой, которую уважают и побаиваются другие, 55 % считают, что она действительно является сегодня великой державой (40 с лишним процентов с ними не согласны). Вместе с тем до двух третей россиян полагают сейчас, что их страна не занимает в мире того места, которое заслуживает, а значительная доля чувствует, что их стране угрожают извне другие, переживают уязвимость нынешнего положения России.
Иными словами, великодержавные представления компенсируют сегодня явную неуверенность большинства россиян в настоящем и будущем собственной семьи и своей страны. Этническая неприязнь и агрессия в нынешней России — не национализм, а ксенофобия и изоляционизм, растущие вместе с осознанием отсутствия у страны перспектив и потерей коллективных надежд немедленно, чудом войти в «большой мир». Тем временем служилые элиты, напротив, педалируют риторику национальных интересов и заклинают симулятивную державность. Это один из многих примеров расхождения власти, обслуживающих ее кадров, с одной стороны, и пассивно-адаптивных масс — с другой. Идеология великой державы противостоит импульсам и тенденциям реальной модернизации России, трансформациям основных институтов общества, появлению новых автономных, влиятельных и авторитетных групп в публичном пространстве.
«Мы по-прежнему живем в тени тоталитарного режима»
Впервые: Фонд Егора Гайдара. 2012. 15 мая. Беседовал Кирилл Гликман.
Фонд Гайдара запускает цикл материалов по горячим следам проекта «Гибель империи». Директор «Левада-центра» Борис Дубин ответил на вопрос, заданный в теме лекции Татьяны Толстой, и объяснил, почему советское не только не ушло в небытие вслед за СССР, но и набирает силу в российском обществе начала XXI века.
Что такое советский человек с точки зрения социолога? В чем его отличие от человека западного было тогда, когда империя еще существовала, и какие трансформации с ним случились с тех пор?
Прямое сравнение с тем, что было во время СССР, практически невозможно, потому что опросов, подобных нашему, тогда не проводилось. Советские исследования (прежде всего работы Бориса Андреевича Грушина) были все-таки очень сильно зацензурированы. Поэтому когда Юрий Александрович Левада во Всероссийском центре изучения общественного мнения (тогда еще — ВЦИОМе) в самом конце 1980-х придумал проект «Советский человек», стояла задача реконструировать прошлое по нынешним данным, по открывшемуся на разломе, как бы по следам и обломкам прежнего.
Тут есть один принципиальный момент: и тогда, и сейчас мы не имели в виду какого-то конкретного человека или даже обобщенный образ, который изучает антрополог, работающий в докультурных условиях. Мы (прежде всего — Левада) создали под наш проект исследовательскую конструкцию, и она подразумевает, что мы сосредоточены на тех чертах, которые объединяют нынешнего человека, живущего уже в России, с тем, каким он был в СССР. Весь этот конструкт заточен на выявление повторяющихся устойчивых черт, на фоне которых мы оцениваем отклонение в какую-то сторону. Левада в целой серии статей, которые составили раздел в его книжке «От мнений к пониманию» и в последней книге «Ищем человека», рассмотрел отдельные грани этого человека: человек ограниченный, человек недовольный, человек приспосабливающийся, человек лукавый, человек особенный, человек в новых условиях и т. д.
Прежде всего, принципиальным для этой модели человека является его отношение к власти как к власти патерналистской, обязанной во всех