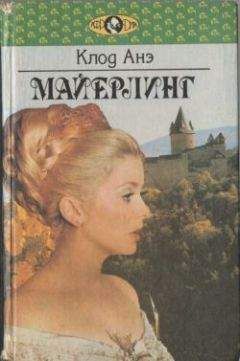Пока я здесь, я завещаю тебе эти путаные, смутные, смертельные слова, которые ты говорил мне, когда уходил. Я завещаю тебе «деловые встречи, важные дела, досадные накладки». Ах, если бы ты знал, если бы ты мог знать, что «накладки» означали на самом деле «я не люблю тебя», а «важные дела» – «хочу тебя помучить». Я также завещаю тебе «Ты не скучала?», «Мне очень жаль», которые следовали после «накладок». Да, я скучала, нет, мне было более чем жаль. Я делала вид, что сплю. Я завещаю тебе простыни, которыми ты укрывался, боясь их шевельнуть, и это при твоей безалаберности! Ты засыпал. Я ждала, пока ты уснешь, только тогда открывала глаза. За ярким солнцем моей любви скрывались тихие пожары, раны, струпья бессонницы. Нет, я завещаю тебе эти неловкие рассветы, когда ресницы подрагивают в едином ритме единого страха. Я завещаю тебе, потому что ты мужчина, постыдные повязки, которые ты накладывал на мои запястья в тот вечер, когда я играла со смертью. Ты склонял голову, ты дрожал и говорил: «На твоих запястьях красная кровь, а твои руки напряжены. Тебе нужно отдохнуть, а потом мы поможем друг другу». Это был искренний или неискренний крик, но крик означает не больше, чем улыбка. Бывают такие усталые улыбки, от которых хочется застонать, и крики – как удары.
А затем, любовь моя, думаю, что мне остается завещать тебе тяжелые, наэлектризованные слова. Ты говорил мне: «Ты не спишь, ты не можешь видеть сны. Сон – это мед, от которого не отказываются. Все это – всего лишь игра. Я хочу видеть, как ты спишь». Ты был прав, ты был рассудителен, я – нет. Но как знать, кто тут прав? Я оставляю тебе рассудительность, оправдание, мораль, конец нашей истории, ее объяснение. Для меня всего этого нет, для меня никогда не существовало объяснения тому страшному факту, что я люблю тебя. Не тому – уж никак не тому, – что любви придет конец. А к нему мы и подошли…
Ах да, я забыла про ракушки. Ты помнишь о них? Ведь ты сердился на меня, за что? За эту открытую рану, которой была наша страсть, за это и я сердилась на тебя. Тогда мы упали на эти жуткие ракушки, засунули их себе в уши, чтобы не слышать больше себя, на самом деле, чтобы больше не слышать морского прибоя, прибоя любви и наших пронзительных голосов, пытавшихся перекричать ветер. Значит, эти ракушки остались там, на месте, или наши сильные губительные руки отшвырнули их, когда мы вместе решили, поняв, что стали слепыми, глухонемыми и грустными, что ракушки нелепы. Я завещаю их тебе. Они по-прежнему на пляже, дожидаются тебя. Я делаю тебе прекрасный подарок. Я бы сама не отказалась пойти на этот пляж, где лил такой дождь, где нам так не понравилась, где все пошло наперекос.
Больше я ничего тебе не завещаю. Сам понимаешь, ничего другого завещать нельзя, ничего вразумительного, ничего человеческого; главное – ничего человеческого, потому что я все еще люблю тебя, но этого я тебе не завещаю. Обещаю тебе: больше я не захочу тебя видеть.
Это чувство – общее для Руссо, Рембо, Ландрю (Анри Дезире, 1869–1922, убил 10 женщин и юношу. Приговорен к смерти и казнен в 1922 г. – Прим. перев.), Пруста, мадам де Севинье, Гитлера, Черчилля, Нерона и меня самой. За него мы должны прежде всего благодарить органы чувств, оно – самое чистое, самое эфемерное из всех. Это чувство зарождается с самого детства и длится до смерти, неизменно доставляя наслаждение. Это чувство может окрылить вас или опечалить, может заставить сожалеть, бояться, а с некоторых пор – и негодовать. Это чувство неизменно приходит извне, никоим образом не будучи поверхностным, это чувство может быть доступно глупцам и недоступно умным и чувствительным людям. Его можно разделить с кем-нибудь, иногда с полсотни двуногих садятся в автобусы и отправляются на его поиски. В прошлом веке это частенько забывают или топчут, а то и выбрасывают вон. Это чувство задолго до нас воспевали римляне и греки, через века, во все эпохи оно оставило более или менее блестящие следы в художественном творчестве. Это чувство может быть извращено инстинктом обладания, но всегда улизнет на волю. Это чувство люди одним своим присутствием автоматически портят: это – чувство природы, которое, оговорюсь сразу, присуще не всем. Вот два тому доказательства, от двух совершенно различных людей.
«Я ненавижу войну, – говорил Селин, – потому что воюют всегда на полях, а поля меня достали». А вот что еще раньше говорил Тристан Бернар: «Я обожаю Трувиль, потому что он очень далеко от моря и совсем близко от Парижа».
В нашу эпоху чувство природы, как и многие другие чувства, стало лозунгом, политической партией: экология, детище благородного вдохновения. Но наша мать Земля, Гея, как ее называли греки, должно быть, находит своих внезапно появившихся «защитников» чуть-чуть снисходительными к ней, так что она с трудом сдерживается. Она, привыкшая спокойно вращаться вокруг Солнца, прижимая к своему боку – благодаря силе гравитации – своих человеческих детенышей, чтобы те не свалились в пустоту, давая им еду и питье, своим дыханием надувая их паруса и вращая крылья их мельниц, пригоняя тучи на их пересохшие поля, раскачивая океаны, приглаживая моря, окрасив их воды в синий и темно-зеленый цвета, а в коричневый – леса (созданные, чтобы согревать нас), в бледно-лазурный – небо, которое нагоняло бы тоску, будь оно розовым, развлекая нас то снегом, то жарой (когда мы располагались рядом с ее талией), слегка забывая нас, стоило нам удалиться (как забывают собаки своих щенков), предоставляя свои карманы спелеологам, свои просторы – искателям приключений, свои пляжи – лентяям, давая еду, тепло, воду, одежду, радость, но порой пугая (внезапно) своей яростью весь наш род. Снисходительным экологам не следует забывать силу ее гнева, которая рушит города, валит горы, поднимает ветер, разламывает корабли. В ярости Земля кашляет лавой, а ее вулканы отхаркиваются дымящимися скалами. Наказания, но слабые наказания, с Ее точки зрения, если сравнивать их с теми бесчисленными милостями, которыми Она осыпает нас от века.
А что ей пришлось пережить в 1945 году? Ее дети, ее собственные дети уже не просто щекотали ей кожу своими шариками-бомбами, они нашли способ сжечь дотла ее поверхность. Из-за этих неблагодарных ей, возможно, было суждено остаться в одиночестве, серой, облысевшей, молчаливо вращаясь, с кожей, обожженной до второго слоя эпидермы, продырявленной… И к тому же – без единой птицы. Короче говоря, обесчещенной!.. Конечно, конечно, когда ее ярость стихла бы, она обзавелась бы другими жильцами, но о прежних не может быть и речи! Нет! Ни мужчин, ни женщин, ни детей. Пусть будут животные, это еще куда ни шло, они ведь были бесхитростными, беззаботными и нежными, но ни в коем случае не эти двуногие, слишком слабонервные и с куцым умишком. Эти людишки использовали всего лишь 25 % своего мозга (к тому же знали об этом), готовы были искалечить, уничтожить ее! Ну уж нет, она устроит так, чтобы следующие жильцы использовали 50 % своего разума, что позволило бы им жить в мире, узнать друг друга и познать ее, ее, о которой современные ученые выдвигают лишь жалкие гипотезы… Наконец, нужно сказать и о том, что ее прекрасное платье, сшитое из земли и пшеницы, местами вечно было испачкано кровью до такой степени, что ей самой становилось противно. К тому же ей надоело видеть в своих пустынях несчастных, которые умирали от голода, едва успев родиться, в то время как в плодородных краях жители, испорченные тщеславием и сытостью, использовали излишки своего добра, чтобы изобрести оружие для самоуничтожения и для уничтожения ее самой, в общем, навредить ей чуть больше, чем это удавалось им раньше с помощью смешных игрушек. Да пошли бы они!.. Пусть их приютит Луна, старая скупая и холодная кузина, уж ее-то репутация хорошо известна. Пусть отправятся к злому Сатурну с его бурями! Пусть убираются куда угодно! Она больше не в силах выносить этих эгоистов с их дуростью, неблагодарных, неспособных излечиться от собственных смертельных недугов, зато способных одним махом уничтожить себя! Они стали невыносимы. Так пусть же убираются!.. Она больше не их «Мать-Природа». Так они прозвали ее, она не возражала, но отныне с этим прозвищем покончено.
И все же представьте себе, вспомните, что такое чувство Природы: вы один на лугу. Вы ложитесь под деревом, смотрите на бесчисленные листья, блестящие на фоне голубого неба – пустого или обитаемого, это зависит от ваших верований. Ваши руки покалывает жесткая трава, вы вдыхаете запах земли, напитанной солнцем, вы слышите, как под вами заливается во весь голос птица, радуясь красоте дня. И ни следа человека… В такие минуты чувствуете счастье и покой, а еще – признательность к Ней. К верной, доброй и доступной природе, к земле, на которой так хорошо вашему телу, которая уносит вас, недвижимого, в свой неспешный путь вокруг Солнца. Вы чувствуете, что она принимает вас. Чувствуете, что она дает вам равновесие. Вы любите ее зелень, ее запах, ее звуки. Короче говоря, вы испытываете чувство Природы так, как его испытывали греки, римляне, ваши предки; подобное будут испытывать и ваши дети (если еще смогут). То же испытывал Гитлер и его жертвы, тупицы и гении, вы сами в шестилетнем возрасте, и вы сами сейчас. Вы объездили или не объездили эту землю, видели или не видели ее каналы, ее лагуны, ее тропики, ее фьорды. Вы видели толпы населяющих ее людей, видели ее моря, ее вершины, вы видели их вблизи или пролетали над ними – не имеет значения, – но все вы хоть раз испытали это чувство, этот ни с кем не разделенный восторг. Было ли это в городском саду или в сердце джунглей – вы ощутили материнскую снисходительность Земли по отношению к вам.