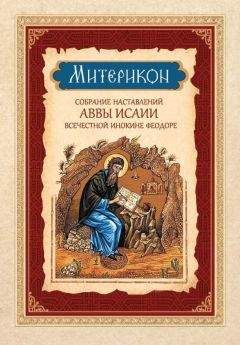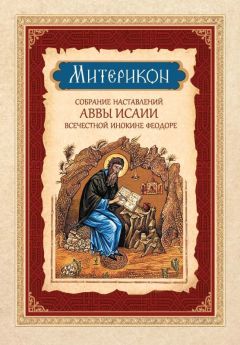Ну да ладно, если и дальше топтаться в нерешительности, то можно Вовадия совсем упустить. Открываю балконную дверь и — хочешь, не хочешь — высовываюсь над перилами и смотрю вниз: улица пустынна, только из переулка выворачивает рейсовый автобус с закрашенными окнами. Впрочем, никогда не знаешь, что это — обыкновенный автобус или приманка для вольных стрелков. Замалеванные стекла вполне могут оказаться закамуфлированной броней, за которой скрывается подразделение Национального особого отряда — Эн-два-О, как зовут его в народе. Если кого и боятся любители пострелять — так это эндваошников. Правда, их все боятся, а в особенности — инородцы, хотя инородцев эндваошники как бы не замечают. Не то что муниципальная милиция…
К счастью, Вовадий не заставил себя ждать. Он появляется из подъезда, и я ору: «Вовадий!» — подавляя искушение сейчас же присесть на корточки. Но понимаю: если присесть, Вовадий не поймет, откуда зову его, и придется кричать снова.
Но Вовадий не догадывается посмотреть вверх. Он вертит головой по сторонам, замечает автобус: перебегает через улицу. Я снова кричу и делаю отчаянные знаки: давай, мол, сюда. И вижу: метрополиец с пятого этажа привстал со скамеечки: выставил над перилами любопытную голову; под курткой у него десантный бронежилет — отличная вещь: легкий, гибкий, такой недавно где-то раздобыл Аинька.
На ходу Вовадий оборачивается и теперь находит меня глазами, но вместо того, чтобы остановиться, неопределенно машет рукой и бежит по дорожке между домами к станции метро.
Я возвращаюсь в комнату и прокручиваю в памяти картинку: улица с ползущим автобусом, белые лаги простыней на шестнадцатиэтажке, метрополиец в бронежилете и одинокая фигурка, убегающая по дорожке, покрытой желтыми листьями. Точно: убегающая! Чего-то Вовадий испугался…
Догадка оставила неприятный осадок. Соображая, что все это значит, я соорудил бутерброд с гороховой колбасой и перелил в кружку остывший кофе. Ни до чего умного при этом я не додумался и стал жевать.
От еды и размышлений меня отвлек телефонный звонок. Я поднял трубку и в ответ на свое «алло» услышал молчание, если, конечно, молчание можно услышать. На том конце провода кто-то дышал. Я предположил, что это Еленя набралась смелости, но в последний момент смелость ей отказала. Мои планы в отношении Елени исключали болтовню по телефону, посему я поспешил вернуть трубку на рычаг. Рука уже описывала дугу, когда до меня донеслось:
— Срочно уезжай из города!
И — гудки отбоя. Похоже на голос Вовадия, но уверенности в этом не было. И потом: Вовадий не сомневается, что все телефоны прослушиваются КМБ, а в этом звонке… А что, собственно, в нем такого, что может заинтересовать каэмбэшников? Все больше напоминает глупую шутку, если… если звонил не Вовадий. В противном случае странный финал неурочного визита вкупе с этим звонком… Чертовщина! Ничего не понять, но на душе тревожно. Настроение испортилось, и я начал поругивать Вовадия, столь неожиданно сломавшего мою безмятежность.
Кофе получился дрянь. Я допил его без энтузиазма, лишь под конец вспомнив про малюсенькие чашечки и недоступную ледяную воду. Еще полчаса назад я предвкушал, как заполню время до обеда: прикрою глаза, отключу слух, усядусь в кресло, задрав ноги на спинку стула, и ни о чем, абсолютно ни о чем не буду думать — то есть отрину суровую действительность и приобщусь, согласно терминологии кришнаитов, к духовному блаженству. Но теперь, когда в душе засело беспокойство, приобщение выглядело проблематичным. Требовалось чем-то занять себя. Я согрел воду и принялся полоскать запылившиеся от совершенного неупотребления тарелки. А чтобы скучно не было, врубил радио. По утрам обычно крутят современную музыку, но сегодня транслировалась пьеса на метрополийском. Поскольку я включил ближе к концу, то так и не понял, в чем там дело.
Скоро выяснилось, что напрягался я зря, потому что почти без перерыва та же пьеса пошла на инородческом, словно сие не пьеса, а речь премьера или выступление Г. З. К. Уже только поэтому следовало послушать.
Радиопьеса называется «Деус-махина». Эта самая махина, то есть машина, спрятана в Правительственном доме. «А кто ее построил? И зачем?» — спрашивает главный герой. «Никто, — отвечают ему. — Она была всегда. А зачем — неизвестно». — «Значит, она — Бог!» — говорит герой. «Да, да…» — вроде бы утвердительно, но тоном, оставляющим простор для выводов, отвечают ему. А народ живет худо: нет еды, нет одежды, самого элементарного нет, деньги ничего не значат, про свободу говорят много и все, кому не лень, но люди исчезают средь бела дня прямо на улицах. Ко всему — разражается эпидемия непонятной болезни, что-то наподобие цинги. У Правительственного дома собирается толпа: требуют справедливого распределения детского питания. Как всегда в таких случаях, находятся горячие головы. «Разрушим цитадель рабства!» — кричат они. Наш герой среди них, он чист и готов на самопожертвование. Но кто-то называет их провокаторами, кричит, что в Правительственном доме полно солдат и они будут стрелять. Люди готовы отступить, но тут в толпе раздается взрыв: сработало устройство, принесенное кем-то из митингующих. Слышно, как стонут раненые. Чем дальше от места происшествия, тем больше уверенность, что взрыв — дело правительственной службы безопасности. Толпа надвигается, летит первый камень в зеркальные стекла Правительственного дома. Наш герой впереди, он готов погибнуть. Люди врываются внутрь, бегут по широким лестничным маршам. Но никто не стреляет. В Правительственном доме пусто, вообще никого нет, ни одного человека. Только где-то в глубине, за анфиладой залов, под прозрачным гигантским куполом мерно шумит Деус-махина, мигает разноцветными лампочками. Толпа обступает ее, стоит, недоумевая.
И вдруг — истошный крик! — голос нашего героя: «Бей!» Это — как сигнал. Толпа визжит, крушит Деус-махину. Сквозь визг прорастает музыка, тревожная и неясная: отдельных инструментов не разобрать, и только слабая ниточка флейты угадывается в хаосе звуков. И вот — поет одна флейта, чисто и зловеще, и резко обрывается. И звучит голос — это голос Деус-махины. Оказывается, она создает поле, которое держит всех и каждого в стабильном состоянии. Если ее отключить, все распадутся на какие-то там частицы. И она говорит, что прекращает существование. Не потому, что ее бьют арматурными прутьями, — ее невозможно сломать. Просто она заскучала, ей надоело, просто надоело — без объяснений. И все: легкий щелчок — она выключилась. Больше нет никого и ничего нет. Тишина.
Мне потребовалось минут пять, не меньше, чтобы прийти в себя. А пока я размышлял, радио сообщило, что пьесу повторят в восемнадцать часов.
Инородцы — кто в большей, кто в меньшей степени Акакии Акакиевичи. Такова уж специфика инородческого существования, что всякое непонятное событие истолковывается нами не в лучшую сторону. Вот и мне что-то нехорошее представилось — неясное, без формы, цвета и запаха, но крайне неприятное. Чтобы сверить впечатления, я стал звонить сослуживцам. Вообще-то, учитывая вероятность прослушивания телефонов, дело пустое — никто всерьез говорить не захочет. Но, если вдуматься, коль скоро Комитет по охране гласности разрешает такие пьесы, то и криминала в их обсуждении быть не должно. Впрочем, я не дозвонился: никаких гудков, тихо везде, как в могиле. Телефонная связь в Метрополии действует из рук вон.
В начале второго я совершил неудачную вылазку за хлебом. В двух ближних к дому магазинах не оказалось ни крошки, но вились спирали скучающих очередей, а ехать в центр я не решился. Мораторий на стрельбу — штука зыбкая, тем более что часть группировок отказалась участвовать в соглашении. К тому же мораторий заканчивался в три, к метро я подошел без пяти два, а хлеб могли не завезти и в центре.
Я не спеша добрался до дома. Не потому что гулял, а потому что металлическая пластина, вшитая в куртку, при быстрой ходьбе больно упиралась под правую лопатку. В половине третьего, однако, я уже вдевал ноги в домашние тапочки. Где-то на окраине, несмотря на мораторий, постреливали.
Кусок вчерашнего хлеба у меня имелся. Я пообедал консервированными сосисками, которые по причине давно вышедшего срока годности беречь не стоило, переволок телефон в ванную, улегся на щит и стал набирать по очереди номера участников предстоящего застолья. Когда наконец удалось пробиться к У. Ю., палец, крутивший диск, едва не обзавелся волдырем. Радио У. Ю. не слушал, он ответил, что у него нет радиоточки. Я попросил его купить хлеб, а сам свернулся уютным калачиком и задремал под звуки далекой-предалекой стрельбы.
Проснулся я в тишине и не без труда сообразил, что это вечерний мораторий. Пришлось срочно вставать и браться за окна. Черную бумагу и кнопки я заготовил заранее, так что обернулся быстро — в два слоя заделал, и в комнатах, и на кухне. Потом сбегал к тете М. за стульями, расставил их вокруг стола, но предварительно вытащил из-под стола ковер. Стулья стульями, но сколько помню, у меня компания всегда располагается на ковре. Ничуть не хуже, чем за столом, и головы ниже подоконника, стеной защищены.