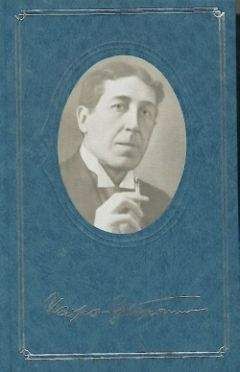Тогда я представился ему, крепко пожал руку и прочел с исключительным подъемом — в благодарность, каждому слову его веря, — «Весенний день».
Финк захотел снять нас и сделал восемь разных снимков — высокохудожественных, приятно-схожих. Просто необыкновенно!
В Белграде первый человек, с которым мы через три-четыре дня познакомились, оказался сотрудником «Нового времени» Алексеем Ивановичем Ксюниным, второй — председателем державной комиссии по делам русских эмигрантов, ректором университета и воспитателем престолонаследника Петра, академиком Александром Ивановичем Беличем.
Уже из этого одного видно, что два предсказания сбылись в первые же дни.
Прием, оказанный мне в Белграде, был исключительным, мы пробыли в Югославии около трех месяцев. Я давал вечера стихов в громадном зале университета, читал в Русском научном институте лекции о Фофанове и Сологубе, получил бесплатный билет первого класса по всей стране, был командирован Державной комиссией в русские кадетские корпуса и женские институты для чтения молодежи своих стихов, очень выгодно издал свои книги и, наконец, посетив около десятка городов, решил, пользуясь билетом, поехать взглянуть на Адриатику, куда мы и выехали в средних числах января 1931 года.
В Белграде было два градуса мороза, дул пронзительный, леденящий дыхание ветер. К утру (выехав в 10 часов вечера) мы ехали уже по гористой, живописной Боснии, несколько часов подряд долиной Дрины, мелькали бесчисленные тоннели и мосты, поезд взбирался все выше и выше, и, наконец, почти уже на закате, прибыли в нагорное Сараево, где мороз доходил уже до двенадцати градусов. Дав в этом красочном и историческом городе вечер стихов и завязав интересные знакомства, на другой день к вечеру мы пустились в дальнейший путь — на Дубровник (Рагузу), куда и попали к полудню следующего дня. Ночью мы проехали Герцеговину, унылую и каменисто-хаотическую. Вдруг из окон вагона перед нами заизумрудило море, поезд уступами стал спускаться к нему, все быстрее, все ниже, наконец он остановился, мы вышли из вагона, — и какой воздух! Какая теплота! Какой восторг! Солнце ярко сияло, небо — сплошная синь, пальмы, агавы, апельсины, мимоза, роза, глицинии! Все это произошло так внезапно, что буквально нас потрясло. Итак, мы были в Далмации, обворожительной и почти неземной. О ее воздухе ничего нельзя сказать словами: его нужно почувствовать, его нужно вдыхать самому, чтобы иметь о нем представление. Нигде и никогда, ни до, ни после такого воздуха я уже не встречал.
В одном из своих стихотворении я назвал его «дыханьем Божества», в другом сказал, что «на Бога воздух был похож» [ «Это не веянье воздуха, а дыханье божества. В дни неземные, надземные Божеского рождества». Дубровник (Рагуза), вилла «Флора мира», 1931, 24 дек.]. Ничего более точного я не мог придумать.
На дебаркадере вокзала к нам подошел господин среднего роста, очень похожий на Наполеона, и представился нам:
— Полковник ген<ерального> шт<аба> А. В. Сливинский. Узнал из газет, что сегодня утром Вы приезжаете в Дубровник, счел своим долгом Вас и Вашу спутницу встретить и просить оказать мне и моей жене честь остановиться у нас в доме. Мы живем по правому берегу моря в трех километрах отсюда. Моя машина — в Вашем распоряжении.
Мы, конечно, с удовольствием приняли его приглашение. Автомобиль быстро понесся по дивно шоссированной дороге на его дачу «Флора мира».
Мария Андреевна, его жена, встречала нас на белом открытом балконе. Апельсины и нэспали вплотную приникали к нему. Мы пили кофе в одних костюмах, было двадцать два градуса тепла. Адриатика (или поместному Ядран) веяла на нас своим воздухом — Богом. Весь покрытый лесами остров Локрум темно синел как раз против дачи. Вдали угадывались берега Италии около Бриндизи. Даже кто не родился поэтом, можно было им стать!..
Вскоре к кофе спустился из своей комнаты во втором этаже единственный гость этой симпатичной четы, живший у них почти всю зиму, — б<ывший> член Госуд<арственной> думы, обаятельный собеседник, Василий Витальевич Шульгин.
Прожив несколько дней в Дубровнике и тщательно с ним ознакомившись, дав вечер стихов в городе, где когда-то блистала загадочная и приманочная соперница Екатерины Великой — Dame d'Azow (мы даже осмотрели ее полуразрушенное палаццо), я говорю, дав вечер стихов, среди которых я с особенным настроением прочел стихи о ней самой, мы, развлекаемые всячески нашими любезными хозяевами, однажды утром сели в открытую машину и помчались вдоль Адриатического моря через Ерцегнови и Каттаро, туда, за Ловчен, в занесенную снегами и уютную Черногорию — в Цетинье.
Перевал через Ловчен навсегда останется в моей памяти: двадцать восемь зигзагов каждый километр длиною, 2.800 фут. над уровнем моря. Сверху Каттаро казалось нам игрушечным городком, церкви были не более спичечного коробка! Внизу тропическая природа, на вершине — снег и десятиградусный мороз. На обратном пути на одном из зигзагов мы едва не погибли. Южное солнце склонялось к западу, разогретые им снега стали вновь застывать, образуя гололедицу. Задние колеса автомобиля занесло к самому обрыву. Сливинский мгновенно, в последнюю минуту остановил мотор. Воцарилась зловещая тишина: казалось, мы обречены…
— Не шевелитесь, — тихо и повелительно сказал он.
— Саша, опасно? очень? — успела шепнуть его жена.
— Попробую, — беззвучно прозвучал его голос. Рискованным рывком машины Александр Владимирович даровал себе и всем нам жизнь!..
Между прочим, характерная черта: за завтраком в Цетинье, когда мы все выпили по несколько стаканов вина, наш «возница» наотрез от него отказался.
— Слишком ответственный путь, — заметил он. И, может быть, его мудрое воздержание спасло нас.
Наконец мы собрались ехать обратно в Белград, чтобы оттуда, заехав на один день в Любляну (Лейбах), где назначен был мой вечер, направиться через Инсбрук и Швейцарию в Париж.
На вокзале в Дубровнике собрались все наши спутники по прекрасной и такой жуткой поездке в Черногорию — чета Сливинских и Шульгин. Поезд отошел от станции в одиннадцать часов вечера. Все купе утопало в цветах заботливостью наших друзей. Кстати: в поезде было два вагона первого класса — около багажного и в конце. Я попробовал было войти, конечно, в последний, но там была публика, мне же хотелось, как всегда в таких случаях, отъединения.
Волей-неволей пришлось занять купе в головном вагоне. Все остальные купе были пусты. Только в одном из них сидел немец-турист. Вскоре после отхода поезда пролилась ослепительная и звонкая южная гроза. Беспрерывные молнии были похожи на лиловые причудливые росчерки ярко-индивидуальных автографов. Горы гремели вдохновенно и угрожающе. В купе было четыре двигающихся кресла, образующих два дивана. Мы. приготовились спать. Я лег у правого окна ногами провозу, Ирис — у левого головою к нему. Разговаривая и восторгаясь лучезарящимся и грохочущим «небесным водопадом», мы незаметно уснули.
Под железно-каменный грохот наш вагон с креном девяносто градусов, — в длину, — летел в бездну. Ирис падала головою вниз, я — ногами. В душе — чувство смерти. Страха, — я это утверждаю, — не было. Было, скорее, чувство обреченности. Возможно, мы просто не успели испугаться: падение продолжалось несколько секунд. Вагон внезапно во что-то уперся. Меня треснуло головою о стенку. Удар был смягчен бархатной обивкой. Все же синяк получился изрядный. Ирис никак не пострадала. Добавлю еще один штрих: во время падения между нами, — это незабвенно, — произошел следующий диалог:
— Кажется, гибнем?
— По всей вероятности, — спокойно отвечала она. Когда вагон прекратил падение, и чемоданы очутились где попало, к счастью, не задев нас, Ирис, сидя где-то на двери или стенке вагона, может быть, на спинке кресла, — в точности не помню, — вынула из сумочки зеркало и туалетные принадлежности и стала приводить себя, как бы ничего не случилось, в порядок.
— Вы с ума сошли, — вспылил я. — Какой ерундой Вы занимаетесь! — Ее хладнокровие граничило с бесчувственностью…
Мы стали карабкаться вверх по вагону, напирая снизу на двери каждого купе в отдельности, скользя по линолеуму и поминутно скатываясь вниз, таща за собой несессеры и чемоданы.
С трудом выбравшись на верхнюю площадку, стекло. Двери которой было разбито, я высунулся из него.
Гроза стихла. Непроницаемая тьма. Снизу доносились голоса. Там пылали факелы.
— Други, добейте меня! — раздирающим душу голосом стенал смертельно изувеченный машинист…
Тщетно пробовали мы раскрыть дверь, ютясь на площадке: она не поддавалась нашим усилиям. Наконец мимо нас спускавшимся к паровозу кондуктором мы были через разбитые двери извлечены наружу и стали в кромешной тьме карабкаться по скользкому откосу к полотну. Часть чемоданов осталась внизу около вагона, и за ними пришлось послать, щедро его одарив динарами, какого-то албанца. Весь состав поезда, оказалось, стоял на рельсах. Свернулись вниз только паровоз, багажный и наш вагоны… Катастрофа произошла из-за грозы: громадный осколок скалы, подмытый ливнем, упал на рельсы перед проходом поезда Путь в этом месте чрезвычайно изгибист: машинист из-за уступа не мог издали заметить опасность, паровоз налетел на осколок, подскочил, — что называется на дыбы встал, — и ринулся вниз в речку Неретву, мелкую и порожистую. Багажный вагон раздавил его и частью сам себя в щепы, наш же уперся в них и, следовательно, удар уже был отчасти смягчен. Все это произошло между станциями Мостар и Яблоница. Через час из Яблоницы был подан вспомогательный поезд, и все пассажиры, перелезши через злополучный осколок разместились в вагонах. Немец-турист оказался между ними. Я не знаю, каким образом выбрался он из вагона. С большим опозданием прибыли мы в Сараево, где были встречены нашими знакомыми, обеспокоенными за нас. Они уговорили нас сделать остановку и поехать к ним отдохнуть.