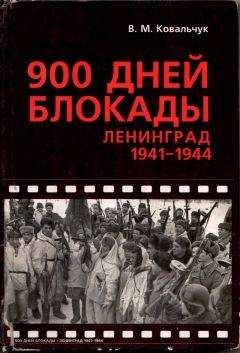Словно чуя беду, мама не сдавалась. Но беда не любит одиночества: на того, кто в беде, все несчастья валятся.
Из Ленинграда пришло письмо, в котором сообщалось, что в доме на Кировском проспекте, где нам была выделена квартира, взорвалась бомба, пролежавшая долгое время после какой-то из бомбёжек. Дом разрушен. Для нашей семьи подыскивают другую квартиру и, как только подберут, сообщат нам. А пока с переездом надо повременить.
Мама пала духом, а Терехов воспрял, снова загнал Олега на полевой стан, но слово своё держал: колхоз каждый день выдавал нам нужные продукты. Всё бы вроде ничего, живи и жди письма скорого из родного города, но оно не приходило…
Зато однажды, в середине июля, в таёжной глуши, где мы жили, свершилось природное явление, прежде не бывалое, сравнимое с землетрясением, которого никто не ожидает.
Лето было в разгаре. Уже можно было подкапывать молодую картошку, такую сладкую в ту пору! Огород буянил зеленью и обещал богатый урожай.
В тот день стояла необыкновенная жара, небо – чистое, ни облачка, голубое-голубое.
И вдруг на этом огромном голубом куполе, далеко на горизонте, я заметил небольшой чёрный-пречёрный шарик, который летел в сторону Петушихи с невероятной скоростью, с каждой секундой увеличиваясь в размерах и быстро закрывая небо. Это было чёрное, как копоть, облако, впереди которого катился белый вал. В мгновение ока стало темно, как поздним вечером. «Сейчас хлынет дождь!» – подумал я и кинулся в избу.
Но с неба обрушился град, хотя в обычном представлении град таким быть не может. Это было что-то невероятное: с неба под острым углом летели куски льда величиной с куриное яйцо и больше, летели в таком множестве и с такой плотностью, что буквально за пятнадцать минут вся земля стала белой. Резко похолодало. В воздухе пахло снегом.
Картина была ужасной. Не понимая, кто их так сильно колотит, коровы, задрав хвосты, носились по деревне и дико ревели; свиньи, визжа, метались из стороны в сторону; лошади ржали и взбрыкивали, отбиваясь копытами от невидимого врага; успевшие спрятаться куры заполошно кудахтали, гуси отчаянно гоготали; утки крякали. Люди в полной растерянности наблюдали за происходящим из окон, из-под навесов, куда успели скрыться, не смея высунуть наружу и носа.
Град покрыл слоем сантиметров в двадцать всё, что росло и благоухало в огородах ещё несколько минут назад, покалечил немало овец, лошадей, коров и свиней, поубивал множество кур, уток, гусей.
А небо вскоре заголубело, солнце засияло. Снова стало жарко. Град быстро таял, обнажая мёртвую домашнюю и дикую птицу. Крыши изб, крытые тёсом, подсыхая, становились пятнистыми, на толстенном стволе кедра, крона которого накрывала нашу избушку, град сбил почти всю кору, и с одной стороны он стал голый; на стволах берёз вздувались огромные волдыри…
Погибли все колхозные поля – рожь, пшеница, овёс, лён, картошка, свёкла, морковь, всё-всё… Деревня зашлась в стонах и слезах.
Наступила зима, и, как всегда в те годы, упали глубокие снега, ударили трескучие морозы.
Малюсенькие запасы картошки и овощей, которые, несмотря на град, мы всё ж собрали с огорода, быстро таяли. На колхозные трудодни Олега нам выдали по нескольку килограммов муки, немолотой ржи, пшеницы и пару мешков куколя – обмолоченных головок льна, в которых иногда встречались льняные зёрна. Это была обыкновенная солома, оставшаяся от обмолота, но если её запарить в русской печи, то получалось нечто похожее на кашу, пахнувшую льняным маслом. Мы давились, но глотали.
Наступил момент, когда всё съедобное в нашем доме вместе с убитыми курами закончилось. В подполе и сусеках – шаром покати. Пришёл голод. Самый настоящий, похожий на блокадный.
Мама стала попрошайничать у соседей, но у всех положение было такое же аховое.
В один из дней мама, потеплей одевшись, с утра куда-то ушла, и её не было целый день. К ночи она вернулась и принесла несколько картошин и морковин, кусок хлеба.
Через день она опять ушла. И опять принесла еды… Я понял, что моя мама ходит в соседние деревни, в которых град не был таким сокрушительным, а то и совсем их не коснулся, и просит милостыню, или, как говорили в Петушихе, «побирается». До ближайшей деревни Талицы было больше десяти, а до другой – Большого Калтая пятнадцать километров. Идти надо было по глубокому снегу, проваливаясь почти по пояс, ориентируясь только по просекам. Несколько часов в один конец, несколько часов обратно…
Зимние дни коротки. Мама уходила ранним утром, затемно, и возвращалась глубокой ночью, едва живая от усталости и страха: путь лежал по тайге, в которой волки, рыси. Чтобы мы не сбежали из дома к соседям, мама припирала дверь снаружи. К ночи, когда темнело, мы с Ириной, прилепившись лицами к замёрзшему окошку, начинали реветь от ужасов, которые нам мерещились.
Но самое страшное было впереди…
Однажды поздним вечером, в середине января, когда мы трое – мама, Ирина и я – сидели у жарко растопленной печки, в дверь слабо постучали. Мама спросила: «Кто?» В ответ раздался слабый голос Олега: «Я…» Мама открыла дверь, и мы увидели всего в снегу, заиндевевшего, с мертвенно бледным лицом Олега. Он постоял несколько секунд, держась за косяки, хотел что-то сказать, но силы оставили его, и он рухнул из-за порога в избу лицом вниз…
Мама и я с трудом затащили Олега на его спальное место – скамью у стены, сняли промёрзшую, колом стоявшую на нём одежду, укутали в тёплые вещи, пытались о чём-то спросить, но он смотрел на нас невидящим взглядом, отвечал невпопад, а потом начал бредить, то и дело заходясь в тяжёлом кашле.
Очнувшись, Олег с трудом рассказал, что тридцать километров от Елбани, куда его на ремонтные работы в МТС снова отправил Терехов, он более суток шёл домой по бездорожью в сорокаградусный мороз. Его отпустили домой, когда убедились, что он действительно сильно болен. Просто разрешили покинуть МТС – иди…
Ночь прошла в тревоге, без сна. Поутру мама кинулась к Терехову. Тот велел отпустить для нашей семьи молока, муки, масла – всего понемногу, и дал каких-то таблеток. Мама просила у Терехова лошадь и сани, чтобы отвезти Олега в Маслянино, в больницу, но Терехов отказал: «Лошадей мало, половину град искалечил. Дороги нету. Снег глыбкий. А ежли лошадь ногу сломат? На носу посевна. Лихорадка, поди… Ничё, молодой – выжит».
Мама поила Олега горячим молоком, растирала грудь и спину раствором трав, давала тереховские таблетки, но толк был невелик. Олег пришёл в себя, ел понемногу и нехотя рассказал, как застудился, валяясь под трактором в мастерской, где отовсюду сквозило холодом, как его недели две лихорадило, но он всё равно ходил на работу.
Переход в Петушиху был для него, видно, настолько мучительным, что в какой-то момент своего рассказа, махнув рукой, он умолкал, на глаза наворачивались слёзы. На этом пути Олег и промёрз окончательно: ватная фуфайка – не для сорокаградусного мороза.
Шёл наобум Лазаря, то и дело сбиваясь с дороги, признаки которой ещё сохранялись в тайге, а в полях были напрочь заметены так, что искать её продолжение приходилось, обходя края поляны, увязая по пояс в снегу. Только одно и было хорошо – ярко светила луна, заливая белым светом снежные равнины, да жгучий ветерок вовсе утих. Иначе б Олегу не выбраться из сугробов, он так и застыл бы в них – усталость валила в сон…
Проходили дни, закончился январь, но Олегу становилось всё хуже, он не мог уже встать со скамьи, и я видел, как, отвернувшись к стене, мой брат молча плакал.
Мама решилась позвать к[?]ркалок (гадáлок) – пусть погадают, свои снадобья попользуют, какой-никакой, а шанс. И направила меня передать им свою просьбу.
Жили кáркалки на правой стороне ручья «Ключик», пересекавшего Петушиху прямо посередине и уходившего в сторону с[?]гры у Чёрной речки. Первым на этой стороне деревни стоял дом жившего в Петушихе единоличником и бобылём, похожего на тронувшегося умом человека по прозвищу Лал-моти-не надо, а второй была изба кáркалок. Высоченную ростом и большущую другими размерами кáркалку звали Ефросинья, а её сухонькую и сгорбленную сестру – Авдотьей. В эту часть Петушихи без нужды мало кто заглядывал: и люди там жили странные, и сóгра – ни грибов, ни ягод здесь нет, зато всегда комары и мошкара тучами вьются. В этом месте так и веяло какой-то чертовщиной.
К избе кáркалок с большой деревенской дороги даже тропинки никто не пробил, снег лежал нетронутым, будто только что навалило. То и дело оставляя в сугробе свои безразмерные пимы, я всё ж добрался до загадочных бабок и постучал в окно. Кáркалки по очереди глянули на меня через стекло, потом впустили в избу. Я рассказал о нашей беде. Кáркалки сочувственно заохали и отпустили меня, повелев ждать их сей же день.
Пришли они вскоре. Едва Ефросинья вошла в нашу избу, оказалось, что места в ней, кроме самой Ефросиньи, нет никому – ни её сестре Авдотье, ни схожей с Авдотьей в миниатюрности нашей маме, ни нам, её малым детям. Надо думать, такое случалось не впервой, потому как Ефросинья, ещё не сняв полушубка, усадила маму в угол, к печке, и тоном, не допускающим возражений, велела сидеть тихо и не мешать; Иринку загнала на полати, а меня – на печку, задёрнув занавеску и приказав не высовываться. Но я, конечно же, не мог удержаться, подглядывал.