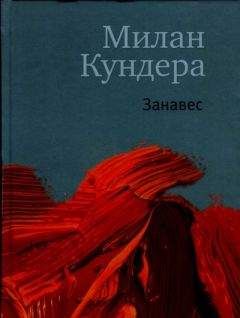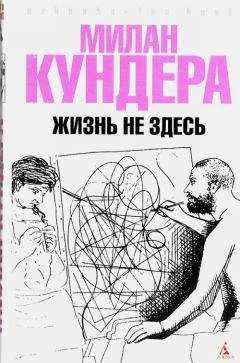Тяжело раненный на поле боя при Аустерлице Андрей Болконский постепенно возвращается к жизни. В этот момент покачнулся весь его мир — мир блестящего молодого человека: но не вследствие логических, рациональных раздумий, а вследствие простого столкновения со смертью и долгого взгляда на небо. Именно эти детали (взгляд на небо) играют огромную роль в решающих моментах, которые переживают герои Толстого.
Позднее, выйдя из состояния глубокого скептицизма, Андрей снова возвращается к активной жизни. Этой перемене предшествовал долгий разговор с Пьером на пароме, переправляющемся через реку. Пьер, тогда еще (такова была недолгая стадия его эволюции) позитивно мыслящий, оптимист, альтруист, стал возражать против человеконенавистнического скептицизма Андрея. Но в ходе их спора он проявил себя скорее наивным, приводил шаблонные доводы, а Андрей как раз блистал интеллектом. Более важным, чем слова Пьера, было молчание, последовавшее за их разговором: «…и, выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе». Это ощущение было мимолетным и тотчас же исчезло, но Андрей знал, «что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем». И однажды, гораздо позже, подобно танцующим искрам, заговор деталей (взгляд на листья дуба, случайно подслушанный радостный разговор девушек, неожиданные воспоминания) разжег это чувство (которое «жило в нем»), и оно разгорелось. Андрей, который еще вчера был счастлив в своем полном уединении, внезапно решает осенью «ехать в Петербург и даже служить». […] И, заложив за спину руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь. И в эти-то минуты, когда кто входил к нему, он бывал особенно сух, строго-решителен и в особенности неприятно-логичен. …как бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую в нем внутреннюю работу». (Самые значимые строки выделены мною. — М. К.) (Вспомним: такой же заговор деталей, уродство повстречавшихся лиц, разговор, услышанный случайно в купе поезда, неожиданное воспоминание провоцируют решение Анны Карениной, в следующем романе Толстого, покончить с собой.)
Еще одно огромное изменение во внутреннем мире Андрея Болконского: смертельно раненный в Бородинском сражении, лежа на операционном столе в военном лагере, он внезапно переполняется странными ощущениями мира и примирения, ощущением счастья, которое больше уже не покинет его; это состояние счастья тем более странно (и тем более прекрасно), что эта сцена отличается предельной жестокостью, полная устрашающе точных подробностей хирургического вмешательства в эпоху, незнакомую с анестезией; и что еще более странно в этом странном состоянии: оно было вызвано неожиданным и лишенным логики воспоминанием: когда фельдшер снял с него одежду, «самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею». И через несколько фраз: «После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, — представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность». Только позднее Андрей замечает на соседнем столе своего соперника, Наташиного соблазнителя Анатоля, которому в этот момент хирург отнимает ногу.
Обычное прочтение этой сцены: «Раненый Андрей видит своего соперника с ампутированной ногой; это зрелище наполняет его глубокой жалостью к этому человеку и к людям в целом». Но Толстой
знал, что такие внезапные прозрения обычно вызваны не столь очевидными и столь логичными причинами. Это тот странный ускользающий образ (воспоминание раннего детства, когда его раздевали так же, как сейчас раздевает фельдшер) дал толчок всему его новому превращению, новому видению вещей. Несколько секунд спустя эта чудесная деталь наверняка была забыта самим Андреем, как ее, наверное, немедленно забыло большинство читателей, читающих романы столь же невнимательно и плохо, как «читают» собственную жизнь.
И еще одно большое изменение, на этот раз с Пьером Безуховым, который принимает решение убить Наполеона; этому решению предшествует такой эпизод: он узнает от друзей франкмасонов, что в тринадцатой главе Апокалипсиса Наполеон отождествляется с Антихристом: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть». Если перевести буквы французского алфавита в цифры, то слова император Наполеон дают в сумме число 666. «Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответе на этот вопрос: l'empereur Alexandre? la nation Russe? Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя — Comte Pierre Вesouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал: „le Russe Besuhoff" и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом l'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый ответ: 1'Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это взволновало его».
Тщательность, с которой Толстой описывает все орфографические изменения, привносимые Пьером в свое имя, чтобы получить число 666, невероятно комична: l'Russe — изумительная орфографическая шутка. Неужели серьезные и смелые решения несомненно умного и симпатичного человека могут проистекать из глупости?
А что вы подумали о человеке? Что вы подумали о самом себе?
СМЕНА ВЗГЛЯДОВ КАК ПОПЫТКА ПРИСПОСОБИТЬСЯ К ДУХУ ВРЕМЕНИ
Как-то раз одна французская приятельница сообщила мне, сияя: «Ну вот, больше нет Ленинграда! Вернулись к старому доброму Санкт-Петербургу!» Меня никогда не приводило в энтузиазм переименование городов и улиц. Я хотел было ей это сказать, но спохватился в последний момент: в ее взгляде, ослепленном завораживающей поступью Истории, я заранее угадываю несогласие, и у меня нет желания спорить, тем более что мне тут же приходит на ум эпизод, о котором она наверняка уже забыла. Та же самая женщина однажды навестила нас с женой в Праге после русского вторжения в 1970 или 1971 году, когда мы оказались в тяжком положении гонимых. Со стороны француженки это было проявлением солидарности, и мы хотели ответить ей тем же, стараясь развлечь ее. Моя жена рассказала ей забавный анекдот (впрочем, на удивление пророческий) об одном американском богаче, который остановился в московском отеле. Его спрашивают: «Вы уже ходили смотреть на Ленина в Мавзолей?» А он в ответ: «За десять долларов мне его принесли в отель». Лицо нашей гостьи исказилось. Будучи левой (она по-прежнему левая), она усматривала в русском вторжении в Чехословакию попрание дорогих для нее идеалов, и ей казалось недопустимым, чтобы жертвы, к которым ей хотелось проявить симпатию, высмеивали те же самые попранные идеалы. «Мне это не кажется забавным», — сказала она холодно, и единственное, что спасло наши отношения от разрыва, — это наше положение преследуемых.
Я мог бы рассказать множество подобных историй. Подобная смена взглядов касается не только политики, но нравов в целом, восхищения «новым романом», за которым последовало неприятие революционного пуританизма, сменившегося разгулом свободолюбивой порнографии, европейской идеи, которую одни и те же люди сначала шельмовали как реакционную и неоколониалистскую, а затем подняли на щит как знамя Прогресса и т. д. И я задаю себе вопрос: помнят ли они о своих прежних взглядах? Хранят ли в памяти историю произошедших с ними перемен? Меня вовсе не возмущает, когда люди меняют свое мнение. Безухов, некогда восхищавшийся Наполеоном, стал его виртуальным убийцей, и он мне симпатичен и в том и в другом случае. А разве женщина, почитавшая Ленина в 1971 году, не имеет права выражать радость в 1991-м, что Ленинград уже не Ленинград? Разумеется, имеет. Однако перемена, происшедшая с ней, отличается от перемены, происшедшей с Безуховым.