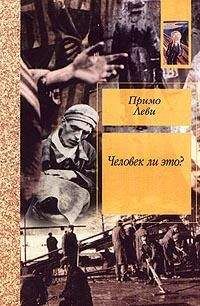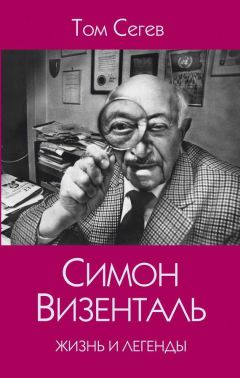Лишь однажды мы не сошлись во мнениях (я не сошелся с ней). В 1966 году Альберт Шпеер был освобожден из тюрьмы Шпандау. Как известно, Шпеер был «придворным архитектором» Гитлера, а в 1943 году тот назначил его министром военной промышленности; в этом качестве он в большой мере отвечал за создание заводов, на которых мы умирали от непосильной работы и голода. В Нюрнберге он был единственным среди обвиняемых, кто признал себя виновным. Даже в том, чего не знал. Или не хотел знать. Его приговорили к двадцати годам заключения, и он использовал их для работы над своими тюремными мемуарами, опубликованными в Германии в 1975 году. Поколебавшись, Хети прочла их, и они ее глубоко потрясли. Она попросила Шпеера принять ее, их разговор продолжался два часа, она оставила ему книгу Лангбайна об Освенциме[70] и экземпляр «Человек ли это?», сказав, что он обязан это прочесть. Шпеер, в свою очередь, дал ей для меня свой «Дневник узника Шпандау» в итальянском переводе.
Получив эти дневники, я прочел их; они говорили об изобретательном и здравом уме их автора, о признании им своей вины, казавшемся искренним (но умному человеку ничего не стоит прикинуться искренним). Шпеер представал шекспировским героем с безграничными амбициями, которые могли ослепить его, сбить с пути, но не варваром, не трусом и не рабом. Я стараюсь поменьше читать такой литературы, потому что роль судьи для меня мучительна. Особенно если судить приходится таких, как Шпеер — человека далеко не простого, преступника, заплатившего за содеянное. Я написал Хети с некоторой долей раздражения: «Что Вас толкнуло к Шпееру? Любопытство? Чувство долга? „Высшая цель"?»
Хети ответила так:
Надеюсь, Вы правильно расценили сделанный Вам подарок. Правильным я считаю и Ваш вопрос. Я хотела посмотреть ему в лицо, хотела посмотреть в лицо человеку, который позволил Гитлеру воровать его идеи и стал его человеком. Он говорит (и я верю ему), что массовые убийства в Освенциме — настоящая травма для него. Его мучает обвинение в том, что он «не хотел видеть, не хотел знать», одним словом, «отстранился». Не думаю, что он ищет оправданий; скорее он тоже хочет понять, но и для него «понять» — невозможно. Мне он показался человеком, который не пытается фальсифицировать факты, который ведет честную борьбу и страдает из-за своего прошлого. Для меня он — символическая фигура, образ заблудившегося немца, ключ к пониманию случившегося. Он прочитал книгу Лангбайна, она потрясла его до глубины души; теперь он обещал прочитать Вашу. Сразу же напишу Вам, как только узнаю его реакцию.
Этой реакции, к моему облегчению, я так и не дождался — отвечать Альберту Шпееру письмом на письмо, как это принято у культурных людей, мне было бы нелегко. В 1978 году, извинившись за то, что она, как ей показалось из моих писем, дала мне повод ее осудить, Хети написала, что еще раз посетила Шпеера, но на этот раз ушла от него разочарованной. Он показался ей эгоцентричным, спесивым стариком, лопающимся от гордости за свое прошлое «архитектора при фараоне». С тех пор содержание наших писем сосредоточилось в основном на темах более злободневных и не менее тревожных: мы обсуждали дело Моро, побег Капплера,[71] одновременную смерть сразу нескольких террористов из банды Баадер-Майнхоф в спецтюрьме Штаммхайм. Она поверила в официальную версию коллективного самоубийства; я сомневался. Шпеер умер в 1981 году, а Хети в 1983-м, скоропостижно.
Наша дружба, почти исключительно эпистолярная, была долгой, плодотворной и даже веселой. Она может показаться странной, если учесть несходство наших жизненных маршрутов, географическую удаленность друг от друга, языковые отличия, и совсем не такой уж странной, когда я вспоминаю, что она — единственная из всех моих немецких читателей, на ком нет ни малейшей вины, единственная ничем не замаранная; кроме того, ее волновало то же, что волновало меня, занимали те же вопросы, которые я обсуждаю в этой книге.
Опыт, носителями которого являемся мы, выжившие в нацистских лагерях, малопонятен новым поколениям на Западе, и по мере того, как проходят годы, становится все менее и менее понятен. Для тех, чья юность пришлась на 50-60-е годы, эти события были связаны с жизнью их отцов; в семье вспоминали недавнее прошлое, и воспоминания еще сохраняли свежесть реально виденного или пережитого. Для молодежи 80-х годов все это уже «часть истории», нечто далекое, смутное, случившееся когда-то с их дедами. Сегодняшнюю молодежь занимают совсем другие, куда более насущные проблемы: ядерная угроза, безработица, истощение природных богатств, демографический взрыв, необходимость постоянно приспосабливаться к бурно развивающимся технологиям. Карта мира сильно изменилась, Европа больше не центр планеты. Колониальные империи пошатнулись и распались под натиском азиатских и африканских народов, жаждавших независимости. В этом процессе было много трагического: он спровоцировал войны между новыми государствами. Германия, расколотая на две части (неизвестно, на какой срок), заставила с собой считаться, стала «уважаемой» и фактически управляет судьбами Европы. Неизменным остается порожденное Второй мировой войной противостояние: Соединенные Штаты — Советский Союз, однако идеологии, которым продолжают хранить верность главные победители, в значительной мере утратили былые доверие и притягательность. Входит в зрелый возраст поколение скептиков, лишенных не только идеалов, но и твердых убеждений; относясь предвзято к основополагающим истинам, они готовы принимать на веру истины мелкие, сиюминутные, возникающие на волне регулируемой или стихийной культурной моды.
Нам говорить с молодыми становится все труднее: с одной стороны, это наш долг, с другой — риск показаться людьми, пережившими свое время, риск не быть услышанными. Но мы должны сделать все, чтобы к нам прислушались, потому что, пусть у каждого из нас свой собственный опыт, все вместе мы — свидетели уникального, неожиданного явления. Потому уникального и неожиданного, что никто не мог предвидеть ничего подобного. Невозможно было себе вообразить, что такое может случиться в Европе с высокоцивилизованным народом, пережившим в недавнем прошлом небывалый культурный расцвет (веймарский период) и вдруг поверившим шарлатану, чья фигура не вызывает сегодня ничего кроме смеха. Однако именно ему, Адольфу Гитлеру, народ этот подчинялся и поклонялся до самого конца, пока не разразилась катастрофа. Если такое случилось однажды, значит, может случиться снова, — вот главное, о чем мы должны говорить.
Да, может, причем, где угодно. Я не утверждаю, не берусь утверждать, что это обязательно случится. В конце концов, как я уже говорил, маловероятно, чтобы вновь совпали все факторы, вызвавшие нацистское безумие, но некоторые пугающие признаки проявляются, и на них стоит обратить внимание. В первую очередь назовем жестокость, «полезную» и «бесполезную», что пока проявляется эпизодически, то нарастая, то спадая, то как случайный инцидент, то как государственное беззаконие; причем проявляется в обоих мирах, которые мы условно называем первым и вторым, имея в виду парламентские демократии и страны коммунистического лагеря. В третьем мире жестокость носит эндемический или эпидемический характер; там в любую минуту может появиться новый шарлатан (кандидатов на эту роль i68 всегда хватает), способный организовать ее, легализовать, объявить необходимой и востребованной и заразить ею весь земной шар. В мире мало стран, обладающих гарантированным иммунитетом против возможной волны жестокости, рожденной нетерпимостью, жаждой власти, экономическими трудностями, религиозным или политическим фанатизмом, расовыми предрассудками. Нужно быть начеку, не верить пророкам и прорицателям, с недобрыми намерениями околдовывающими людей «красивыми словами».
Существует циничное мнение, будто род человеческий не может существовать без конфликтов и что всплески насилия на улицах, на заводах, на стадионах и мелкие местные конфликты суть те же войны, которые, являясь меньшим злом, удерживают людей от большего зла. Еще принято удивляться, что никогда в истории Европы не было такого длительного мирного периода; сорок лет без войны — это, дескать, историческая аномалия.
Подобные аргументы лукавы и вызывают недоверие: человечеству не нужен сатана, не нужны ему ни войны, ни насилие. Нет таких проблем, какие нельзя было бы решить за столом переговоров; главное — добрая воля и взаимное доверие. Или взаимный страх, который в нынешней, бесконечно затянувшейся ситуации бездействия демонстрируют с потугой на улыбку или с гримасой злобы сильные, противостоящие друг другу державы, не стесняясь при этом развязывать (или не сдерживать) вооруженные конфликты между своими «протеже», снабжая их новейшим вооружением, засылая шпионов, отправляя наемников и военных советников вместо миротворцев.