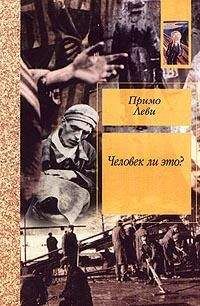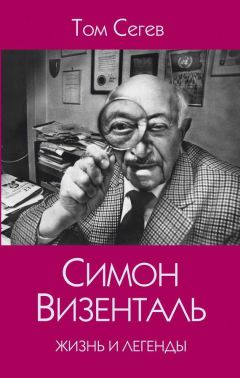Особый случай — переписка с Х.Л. из Баварии. Первый раз она написала мне, будучи старшеклассницей, в 1962 году. Ее письмо, живое и непосредственное, отличалось от всех других писем, возможно, более глубоких, но отмеченных тяжелой печатью пессимизма. Она полагает, я жду ответа от важных персон, официальных лиц, а не от какой-то девчонки, тем не менее ей кажется, что «она должна отвечать за содеянное, как если бы была наследницей и соучастницей». В школе ее хорошо учат, она довольна тем, как ей преподают недавнюю историю ее страны, но она не уверена, «что свойственное немцам отсутствие чувства меры не проявится однажды снова — в другом обличье и с иными целями». Она осуждает своих сверстников за то, что они отвергают политику, считая ее «грязным делом»; она не сдержалась, когда священник плохо отзывался о евреях и когда преподавательница русского языка, русская по происхождению, стала возлагать вину за Октябрьскую революцию на евреев и называть их уничтожение при гитлеровском режиме справедливым возмездием. В такие мгновения Х.Л. испытывает «невыносимый стыд из-за того, что принадлежит к самому варварскому народу на земле». «Не веря ни в какую мистику или суеверия», она все равно убеждена: «Нам, немцам, не избежать справедливого возмездия за все, что мы совершили». И поскольку она считает себя в определенной степени ответственной за случившееся, ее долг заявить: «Мы, дети поколения, на котором лежит вина, полностью осознаем ее и сделаем все, чтобы не замалчивались вчерашние ужасы и вчерашние страдания, иначе они могут повториться завтра».
В этой девушке я увидел умную собеседницу, лишенную предрассудков, увидел «нового» человека, поэтому я попросил ее описать мне обстановку в Германии (это было в эпоху Аденауэра); что касается ее страха перед коллективным «справедливым возмездием», то я попытался убедить ее в том, что возмездие, если оно коллективное, справедливым быть не может. В ответ она прислала мне открытку, в которой писала, что выполнение моей просьбы потребует серьезной исследовательской работы, поэтому я должен набраться терпения и ждать: она готовит мне исчерпывающий ответ.
Ответ пришел через двадцать дней; он был на двадцати трех страницах — настоящая дипломная работа, построенная на письменных и телефонных интервью, полученных благодаря кропотливому труду этой удивительной девушки. Но, похоже, и она, пусть с самыми благими намерениями, утратила Masslosigkeit, чувство меры, хотя именно за это осуждала немцев, когда писала мне свое первое письмо. «Мне не хватило времени, — с наивной чистосердечностью извинялась она, — поэтому я не успела сократить и оставила все как есть». Но у меня чувство меры еще осталось, так что ограничусь лишь краткими выводами и небольшими отрывками из письма, показавшимися мне наиболее важными.
.. я люблю страну, в которой выросла, обожаю свою маму, но не могу заставить себя симпатизировать немцу как особому человеческому типу. Может быть, это потому, что в нем еще ясно видны качества, так ярко проявившиеся в недавнем прошлом, а может, потому, что в нем я узнаю себя, по сути ничем от него не отличаюсь и за это ненавижу себя.
На мой вопрос о школе Х.Л. (подтверждая свои ответы документальным материалом) отвечает, что весь педагогический коллектив прошел через сито «денацификации», на которой настояли союзники, но отсев проводился не только по-дилетантски, но и в значительной степени саботировался. Да разве могло быть иначе? Тогда пришлось бы лишить работы целое поколение. В школе преподают современную историю, но о политике говорят мало. Нацистское прошлое проявляется то тут, то там, причем по-разному: одни преподаватели им гордятся, другие скрывают свое отношение к нему, третьи заявляют, что оно их не коснулось. Один молодой учитель рассказал ей:
Ученики очень интересуются тем временем, но стоит заговорить о коллективной вине Германии, они сразу же начинают протестовать. Многие даже заявляют, что им надоело читать в прессе и слышать от своих учителей про «теа culpa» [69].
Х.Л. комментирует это так:
.. как раз по тому, как ребята восстают против «теа culpa», можно понять, что проблема Третьего рейха до сих пор остается для них неразрешимой, пугающей и исключительно немецкой, как и для всех тех, кто пытался разобраться в ней до них. Только когда улягутся эмоции, мы сможем осмыслить прошлое объективно.
В другом месте, опираясь на собственный опыт, Х.Л. пишет (весьма убедительно):
Учителя не старались обходить острые проблемы; напротив, они рассказывали о методах нацистской пропаганды, подкрепляя рассказы примерами из газет того времени. Они признавались, что в юности, не раздумывая, с энтузиазмом последовали за новым движением, привлекательным своими слетами и спортивными организациями. Мы нападали на них, как сейчас мне кажется, несправедливо: разве можно требовать от тогдашней молодежи умения оценить ситуацию и предвидеть будущее, если даже не все взрослые были на это способны? А мы, смогли бы мы на их месте лучше распознать сатанинские методы, с помощью которых Гитлер вербовал молодежь для своей войны?
Заметьте: логика та же, что и у доктора Т.Г. из Гамбурга, впрочем, ни один свидетель того времени и не отрицал, что Гитлер действительно обладал демонической силой убеждения, помогавшую ему и в международной политике. Для молодых такая логика объяснима: они, ясное дело, стараются оправдать поколение своих отцов (но не тех скомпрометировавших себя и теперь фальшиво кающихся стариков, которым хочется переложить вину на одного — единственного человека).
Х.Л. писала мне еще много раз, и ее письма вызывали у меня двойственные чувства. Писала она и о своем отце, музыканте, скромном, тонко чувствующем, неравнодушном человеке; он умер, когда она была еще ребенком. Может, Х.Л. искала во мне своего отца? Из не по годам серьезной она могла тут же превратиться в девочку-фантазерку; однажды она прислала мне калейдоскоп и написала следующее:
.. Знаете, а у меня Ваш образ сложился отчетливо: избежав ужасной судьбы, Вы (простите мне мою дерзость) бродите по моей стране, все еще чужой для Вас, точно в страшном сне. Думаю, я должна сшить Вам костюм, примерно такой, как у легендарных героев, который защитит Вас от всех жизненных опасностей.
Сам я не мог представить себя в таком наряде, но не стал ей об этом писать. Ответил только, что подобные одежды не дарят; каждый должен выткать и сшить одежду для себя самого. Х.Л. прислала мне два романа Генриха Манна из цикла «Генрих IV», которые, к сожалению, я так и не прочел — времени не было. В ответ я отправил ей как раз подоспевший немецкий перевод «Передышки». В 1964 году из Берлина, куда она переехала, я получил от нее золотые запонки, сделанные на заказ ее подругой, ювелиром. Мне не хватило духу вернуть их; я поблагодарил за подарок, но попросил больше мне ничего подобного не присылать. Искренне надеюсь, что не обидел эту отзывчивую милую девушку, что она поняла меня правильно. С тех пор от нее больше не было никаких известий.
Переписку со своей ровесницей, госпожой Хети С. из Висбадена, я оставил напоследок, потому что в ее и моей жизни эти письма занимали важное место и переписка продолжалась достаточно долго — шестнадцать лет (с октября 1966 по ноябрь 1982 года). Папка с надписью «ХС» гораздо толще той, в которой хранятся письма всех остальных немцев. В ней более пятидесяти ее писем (каждое — не менее чем на четырех страницах) с моими ответами; копии примерно такого же количества писем, написанных ею сыновьям, друзьям, другим писателям, а также в издательства, организации, газеты и журналы (она считала необходимым присылать мне копии) и еще — вырезки, рецензии. Некоторые из ее писем состоят из двух частей: в верхней половине листа — текст под копирку, посылаемый ею многим корреспондентам; ниже, на свободном месте — личные вопросы, замечания. Госпожа Хети писала мне по-немецки, итальянского она не знала; я начал было отвечать по-французски, но вскоре понял, что французским она владеет плохо, и долго писал ей по-английски. Позже, с ее согласия, я перешел на свой нетвердый немецкий, посылая ей письма в двух экземплярах: один, с толковыми поправками (работа над моими ошибками ее забавляла), она мне возвращала. Встречались мы только дважды: один раз у нее дома во время моей короткой деловой поездки в Германию, другой раз — в Турине, во время ее не менее краткого отпуска. Эти встречи не оставили глубокого следа; наша переписка была куда важнее.
Вопрос о «понимании немцев» стал отправной точкой и ее первого письма, но в нем был такой сильный энергетический заряд, что оно отличалось от всех остальных писем. Мою книгу ей подарил наш общий знакомый, историк Герман Лангбайн, когда первое издание уже успело разойтись. Заведуя отделом культуры в региональном правительстве, она искала возможность скорейшего переиздания книги. Вот что она мне написала: