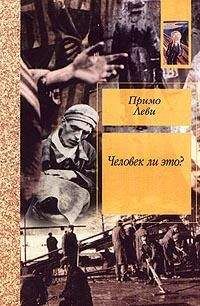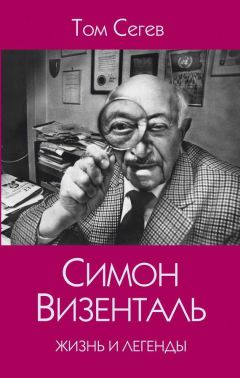Л.И. - из Вестфалии, она библиотекарь. Л.И. признается, что порой испытывала сильное искушение закрыть книгу, не дочитав, чтобы «освободиться от тяжелого чувства, вызванного прочитанным», но каждый раз ей становилось стыдно за свою трусость и эгоизм. Она пишет:
В предисловии вы выражаете желание понять нас, немцев. Поверьте, мы не кривим душой, когда говорим, что сами себя понять не можем, сами не знаем, что натворили. Мы виноваты. Я родилась в 1922 году, выросла в Верхней Силезии, недалеко от Освенцима, но в то время, честное слово, я ничего не знала о тех ужасных делах, которые творились всего в нескольких километрах от нас (прошу Вас отнестись к моим словам не как к удобному оправданию, а как к истинной правде). Я помню, еще до того, как разразилась война, мне приходилось встречать людей с еврейской звездой, но я не приглашала их в дом, не оказывала им гостеприимства, как другим, ни разу им не помогла. Моя вина в этом. Смириться со своим ужасным легкомыслием, эгоизмом и трусостью мне помогает вера в Божье милосердие.
Она пишет, что является членом Aktion Siihnezeichen («Искупительное действие»). Это ассоциация молодых евангелистов, которые во время каникул ездят в другие страны, помогая в восстановлении городов, наиболее сильно пострадавших во время войны от немецких бомбардировок (она ездила в Ковентри). О своих родителях она не пишет ничего, и это показательно. Они либо знали и ничего не говорили ей, либо не знали, поскольку не общались с теми, кто не мог не знать: с машинистами эшелонов, с работниками складов, с тысячами вольнонаемных немцев, работавших на заводах или шахтах, где из рабочих-рабов выжимали последние силы — одним словом, со всеми теми, кто не закрывал глаза и видел. Повторяю, вина истинная, основная, общая, вина почти всех тогдашних немцев в том, что им не хватало смелости говорить о том, что они видели.
М.С. из Франкфурта ничего не пишет о себе; он осторожно пытается доказать, что не все немцы одинаковы, и это тоже показательно.
‹…› Вы пишете, что не понимаете немцев ‹…›. Будучи немцем, испытывающим ужас и стыд и до конца своих дней не способным забыть, что этот ужас — дело рук его соотечественников, я считаю своим долгом откликнуться на Ваши слова и Вам ответить.
Я тоже не понимаю таких людей, как капо, который вытер руку о Вашу спину, как Паннвитц, Эйхман и все те, кто, выполняя бесчеловечные приказы, не задумывался о том, что нельзя освободить себя от ответственности, прикрываясь ответственностью других. Вы думаете, то, что в Германии нашлось столько реальных исполнителей преступной воли и что все это смогло произойти именно благодаря большому количеству способных на это людей, не мучает меня как немца?
Да и кто это такие, «немцы»? Правомерно ли вообще говорить о единстве, общности «немцев», «англичан», «итальянцев», «евреев»? Вы сами пишете, что те немцы, которых Вы не понимаете, — исключения ‹…›. Я благодарю Вас за эти слова и прошу помнить, что неисчислимое множество немцев пострадало и погибло в борьбе с несправедливостью ‹…›.
От всей души желаю, чтобы как можно больше моих соотечественников прочли Вашу книгу, чтобы мы, немцы, не обленились и не зачерствели; более того, чтобы не перестали осознавать, как низко может пасть человек, который мучает себе подобных. Ваша книга должна способствовать тому, чтобы такое больше не повторилось.
Отвечая М.С., я испытывал затруднение-такое же точно, какое испытывал всякий раз, отвечая всем этим вежливым, благовоспитанным представителям народа, истреблявшего мой народ (и многие другие). В сущности, мою растерянность можно сравнить с растерянностью подопытной собаки, от которой невролог добивается разной реакции на изображение квадрата и круга, постепенно скругляя у квадрата углы, пока тот не станет похож на круг: собака либо входит в ступор, либо проявляет признаки беспокойства. Тем не менее я написал ему следующее:
Я с Вами согласен: опасно и непозволительно говорить о «немцах» или любом другом народе как о единой, недифференцированной общности, судить всех без различия, стричь, что называется, под одну гребенку. И в то же время я не сомневаюсь, что существует такое понятие, как «народный дух» (не будь его, не было бы и понятия «народ»); существует нечто типично немецкое, типично итальянское, типично испанское: это совокупность традиций и обычаев, это история, язык, культура, объединяющие людей. Кто не ощущает в себе этот дух, национальный в лучшем смысле слова, тот не принадлежит полностью к своему народу, а значит, и не чувствует себя частицей общечеловеческой цивилизации. И хотя я и считаю глупым силлогизм «все итальянцы страстные; ты — итальянец, значит ты тоже страстный», я нахожу возможным в определенных случаях относиться к итальянцам, немцам и т. д. как к общности, чье коллективное поведение отличается от коллективного поведения других народов. Безусловно, бывают исключения, но осторожно прогнозировать такое поведение, по-моему, возможно.
…Будусвами откровенен: впоколении тех, кому сейчас около сорока пяти, сколько немцев действительно знает, что делалось в Европе во имя Германии? Судя по разочаровывающим результатам некоторых судебных процессов, боюсь, совсем немного: наряду со скорбными, печальными голосами я слышу и совсем другие — полные гордости за мощную и богатую сегодняшнюю Германию.
И.Ю.-социальный работник из Штутгарта. Она пишет:
То, что вам удалось удержаться в своей книге от открытой ненависти к нам, немцам, — настоящее чудо, и нас это должно устыдить. Я благодарна Вам за это. К сожалению, многие из нас до сих пор отказываются верить, что мы, немцы, в самом деле совершили все эти ужасные преступления против еврейского народа. Конечно, такая позиция обусловлена разными причинами, одна из которых, возможно, состоит в том, что в голове обычного человека не может уложиться, будто в нас, «западных христианах», коренится такое страшное зло.
Хорошо, что Вашу книгу опубликовали здесь; она может открыть глаза молодым. Хорошо бы она попала и в руки стариков, но чтобы разбудить нашу «спящую Германию», требуется гражданское мужество.
Я ответил ей так:
.. то, что я не испытываю ненависти к немцам, удивляет многих, хотя и не должно. Я убежден: на самом деле испытывать ненависть можно исключительно ad personam [68]. Если бы я был судьей, я, подавив переполняющую меня ненависть, не колеблясь вынес бы суровый, даже смертный приговор многим виновным, что и по сей день благоденствуют в самой Германии или в других странах, оказавших им, так сказать, гостеприимный прием; но ее-ли бы хоть один невиновный был осужден за преступление, которого он не совершал, это было бы ужасно.
В.А., врач из Вюртемберга, пишет:
Для нас, немцев, живущих под тяжестью нашего страшного прошлого и (кто знает?), возможно, и будущего, Ваша книга — не просто берущая за душу история; это помощь, это ориентир, за который я Вам благодарен. Ничего не могу сказать в наше оправдание. Не думаю, что вину (такую вину!) легко искупить ‹…›. Как бы я ни старался освободиться от тяжелых призраков прошлого, я все равно остаюсь частью этого народа, который люблю и который на протяжении веков в равной мере порождал как благородные и мирные деяния, так и другие, вызванные опасным демонизмом. И сейчас, когда в одной точке сошлись все времена нашей истории, я считаю себя причастным и к величию, и к падению своего народа, а потому готов отвечать перед Вами за причиненное Вам и Вашему народу зло.
В.Г. - историк, социолог, член Социал-демократической партии, родился в 1935 году в Бремене. Он пишет:
К концу войны я был еще ребенком и не могу брать на себя даже часть вины за ужасные преступления, совершенные немцами. Но я стыжусь и ненавижу этих преступников, доставивших столько страданий Вами Вашим товарищам, ненавижу их сообщников, многие из которых до сих пор живы. Вы пишите, что не понимаете немцев. Если Вы имеете ввиду палачей и их подручных, то и я не в состоянии их понять. Надеюсь, что найду в себе силы с ними бороться, если они снова появятся на авансцене истории. Я говорил, что стыжусь, и хочу попытаться объяснить это чувство: то, что было сделано тогда руками немцев, никогда не должно было случиться и остальные немцы не должны были это одобрять.
Особый случай — переписка с Х.Л. из Баварии. Первый раз она написала мне, будучи старшеклассницей, в 1962 году. Ее письмо, живое и непосредственное, отличалось от всех других писем, возможно, более глубоких, но отмеченных тяжелой печатью пессимизма. Она полагает, я жду ответа от важных персон, официальных лиц, а не от какой-то девчонки, тем не менее ей кажется, что «она должна отвечать за содеянное, как если бы была наследницей и соучастницей». В школе ее хорошо учат, она довольна тем, как ей преподают недавнюю историю ее страны, но она не уверена, «что свойственное немцам отсутствие чувства меры не проявится однажды снова — в другом обличье и с иными целями». Она осуждает своих сверстников за то, что они отвергают политику, считая ее «грязным делом»; она не сдержалась, когда священник плохо отзывался о евреях и когда преподавательница русского языка, русская по происхождению, стала возлагать вину за Октябрьскую революцию на евреев и называть их уничтожение при гитлеровском режиме справедливым возмездием. В такие мгновения Х.Л. испытывает «невыносимый стыд из-за того, что принадлежит к самому варварскому народу на земле». «Не веря ни в какую мистику или суеверия», она все равно убеждена: «Нам, немцам, не избежать справедливого возмездия за все, что мы совершили». И поскольку она считает себя в определенной степени ответственной за случившееся, ее долг заявить: «Мы, дети поколения, на котором лежит вина, полностью осознаем ее и сделаем все, чтобы не замалчивались вчерашние ужасы и вчерашние страдания, иначе они могут повториться завтра».