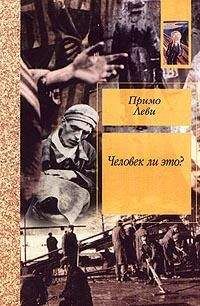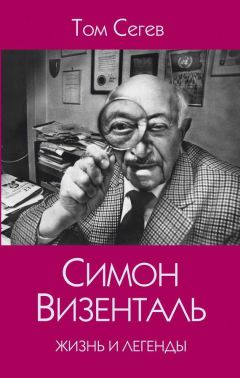Столь же неприемлемой кажется мне теория превентивной жестокости, жестокости, которая не порождает ничего кроме жестокости и постепенно лишь разрастается — вместо того, чтобы сходить на нет. На самом деле, многое говорит в пользу того, что генеалогия современного насилия берет начало в гитлеровской Германии. Само собой разумеется, жестокости и насилия хватало всегда, и в далеком, и в недавнем прошлом, тем не менее во время бессмысленной бойни, какой была Первая мировая война, враждующие стороны еще не утратили остатка взаимоуважения, еще проявляли гуманность к военнопленным и мирным жителям, соблюдали принятые договоренности. К противнику не относились ни как к демону, ни как к червю. Верующий сказал бы: «Людей сдерживал страх Божий». Все изменилось после того, как нацисты объявили: «Gott mit uns»[72]. Ответом на варварские бомбардировки Геринга стали «ковровые» бомбардировки союзников. Оказалось, что ради укрепления власти можно (и желательно) уничтожать целые народы и цивилизации. Массовому использованию ручного рабского труда Гитлер обучался в сталинской школе; к концу войны лагерная система, усовершенствованная Гитлером, вновь расцвела пышным цветом в Советском Союзе, причем в невиданных прежде масштабах. Утечка мозгов из Германии и Италии, а также опасения, что нацистские ученые первыми создадут ядерное оружие, ускорили появление атомной бомбы. Покинув Европу после катастрофы, выжившие евреи создали в сердце арабского мира островок западной цивилизации, процветающий палингенезис иудаизма, снова пробудив к себе ненависть. После поражения в войне притихшая нацистская диаспора стала обучать искусству преследования и пыточным наукам военных и политиков дюжины стран в районах Средиземноморья, Атлантики и Тихого океана. Многие тираны нового образца держат в ящиках своих столов «Майн Кампф» Адольфа Гитлера: с небольшими поправками, с заменой кое — каких имен он еще может сослужить им службу.
Пример гитлеризма показывает, сколь разрушительной может быть война в индустриальную эпоху, даже если ни одна из воюющих сторон не применяет ядерного оружия. Двадцать последних лет служат тому подтверждением: достаточно назвать злополучную вьетнамскую авантюру, конфликт из-за Фолклендских островов, войну между Ираном и Ираком, события в Камбодже и Афганистане. Но этот пример показывает и нечто другое: иногда, по крайней мере частично (к сожалению, математический подсчет тут невозможен), историческая вина бывает наказуема. Правители Третьего рейха кончили дни на виселице или сами свели счеты с жизнью; немецкий народ пережил библейское «избиение младенцев», в десять раз сократившее численность целого поколения, и разделение страны на две части, положившее конец вековой идее германского превосходства. Не так уж нелепо звучит предположение, что, если бы нацизм с самого начала не проявил себя как режим насилия, его противники не объединились бы в союз, либо этот союз распался бы еще до окончания войны. Мировая война, развязанная нацистами и японцами, стала началом их конца: это должно быть уроком для всех любителей войн, если, конечно, они не самоубийцы.
К стереотипам, которые я перечислил в седьмой главе, я хотел бы добавить еще один. Молодые часто спрашивают, и чем дальше уходит то время, тем чаще и настойчивей они спрашивают: кто такие, эти наши мучители? Из какого они были теста? Слово «мучители» в отношении наших бывших охранников, эсэсовцев, не кажется мне особенно удачным: оно создает впечатление о них как о садистах, личностях патологических, с врожденными отклонениями и пороками. На самом деле это были обычные человеческие существа, из того же теста, что и мы, с такими же лицами, как у нас, со средним интеллектом, не особенно злые (чудовища среди них встречались скорее как исключения), но воспитанные в определенном духе. Неотесанные служаки, прилежные исполнители. Фанатично принимало на веру каждое нацистское слово меньшинство из них, большинство же относилось к нему равнодушно, но покорно выполняло приказы, боясь наказания или стараясь выслужиться перед начальством. Все они прошли через чудовищное оболванивание гитлеровской школы и закрепившую это оболванивание казарменную муштру. В части СС одни стремились ради престижа и неограниченной власти, другие же просто пытались сбежать от семейных проблем. Некоторые (по правде говоря, таких можно было пересчитать по пальцам) вскоре задумывались, просились на фронт, с осторожностью помогали заключенным, даже кончали жизнь самоубийством. Ясно, что в той или иной степени все они были ответственны за случившееся, но также ясно и другое: помимо ответственности исполнителей существовала ответственность большинства немцев, из-за близорукости и неверного расчета, из-за тупости и национального самомнения поверивших в самом начале в «красивые слова» ефрейтора Гитлера. Они шли за ним, не зная сомнений, пока ему сопутствовала удача; его крах стал крахом и для них, терзаемых потерей близких, нищетой и угрызениями совести и уже через несколько лет реабилитированных в результате беззастенчивой политической игры.
Борис Дубин. Свидетель, каких мало
так назвал автора «Канувших и спасенных» его соотечественник Джорджо Агамбен в книге «Что остается от Аушвица» (1998), где философский анализ моральных последствий Шоа опирался в первую очередь на свидетельства узника Аушвица (Освенцима) Примо Леви. Сборник размышлений и воспоминаний, который лежит сейчас перед российским читателем, вышел в свет в 1986 году, за несколько месяцев до смерти Леви, и стал итоговым не только для четырех десятилетий усилий автора не забыть прошлое и напомнить о нем другим.
Он резюмировал целую серию публикаций о лагерях массового уничтожения, сходных с автобиографическими текстами Леви «Человек ли это?» (1947) и «Передышка» (1963), а также ответных по отношению к ним. Свидетельские книги Виктора Франкла, Давида Руссе, Ойгена Когона, Жана Амери, Робера Антельма, Эли Визеля, Бруно Беттельхайма, самого Примо Леви составили библиотеку. Рядом с ними встали романы и новеллы бывших заключенных Петра Равича, Жана Кейроля, Анны Лангфюс, Хорхе Семпруна, Имре Кертеса, Бориса Пахора, Тадеуша Боровского и многих других.
Эти книги прочитали сотни и сотни тысяч людей в разных странах, имена их авторов вошли в школьные учебники, а тексты стали основой кинофильмов, радиопостановок и театральных спектаклей. В Германии и других государствах были проведены многочисленные судебные процессы над нацистскими преступниками, в том числе теми, кто отвечал непосредственно за создание и функционирование лагерей смерти. Почти одновременно с «Канувшими и спасенными» Европа увидела девятичасовой документальный фильм-свидетельство Клода Ланцмана «Шоа» (закончен в 1985-м). Через несколько недель после смерти Примо Леви была издана большая подборка воспоминаний лагерных «мусульман» — обрекших себя на добровольную смерть «доходяг», отказавшихся выживать и все-таки выживших. Началось время обобщения и анализа прежних свидетельств — десятилетие трудов Р. Хильберга, Г. Лангбайна, М. Поллака, В. Софского, П. Видаль-Наке и десятков других историографов Холокоста. Так или иначе, в результате этой коллективной работы послевоенный западный мир, в том числе сознание миллионов людей в Германии, стал другим. война против беспамятства.
Что двигало Примо Леви в его многолетних усилиях свидетеля? К литературе он себя долгие годы не причислял и в 1963-м, будучи уже автором двух романов и нескольких новелл, на вопрос, кто он — химик или писатель, ответил: «Конечно, химик, тут и думать нечего»[73]. Может быть, стимулом для его работы стало осознание того, что из реальности нацистской Германии и установленного ею порядка была устранена сама мысль о таких, как он, о подобных ему как о людях, и этот порядок претендовал на статус тысячелетнего и мирового. Всякий «другой» здесь был обречен на изоляцию, заключение и гибель, даже если какое-то время ему разрешалось жить отсрочкой наказания. Как пока еще не уничтоженный он был лишен любых проявлений индивидуальности, даже остаточных идиосинкразий в форме смущения или брезгливости перед всеобщим и одинаковым для всех (стрижка, форма, вытатуированный номер, одновременная еда и прилюдные естественные отправления, принудительное раздевание при всех несколько раз в день и т. п.). Как обреченный он должен был исчезнуть без следа и даже без воспоминания. Поэтому память — одна из ключевых категорий в книгах Примо Леви: память — это личность, свидетель — это человек. В этом смысле «… всю недолговечную историю „Тысячелетнего рейха" можно назвать войной против памяти»[74].
Те, кто выжили, призваны помнить, чтобы предотвратить забвение. Но такова лишь одна сторона их добровольно взятой на себя ответственной миссии. Дело еще и в том, что они не в силах не вспоминать: пережитые ими мучения теперь продлеваются памятью. Память тяжела не только палачу или угнетателю, признавшим себя виновными, — она непереносима для самого вспоминающего, поскольку воскрешает и длит его прежнюю неволю, унижение, боль, утраты. Леви цитирует Жана Амери: «Кого пытали, тот не забудет об этом до самой смерти. ‹…› Кто перенес мучения, больше не вернется к обычной жизни; червь унижения будет грызть его постоянно».