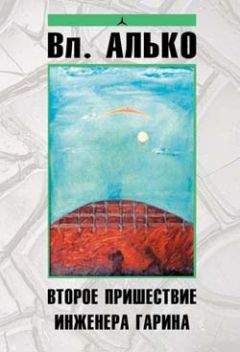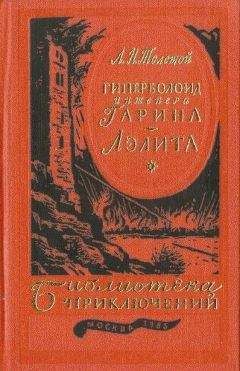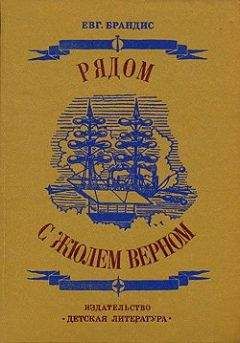В 1929 году вышел роман «Человек, потерявший свое лицо». Беляев нарисовал в нем захватывающую перспективу искусственного воздействия на железы внутренней секреции: человек избавится от старческой немощи, освободится от физического уродства. Но талантливому комику Тонио Престо это принесло только несчастье. Красавицу — звезду экрана, в которую Тонио был влюблен и ради которой пошел на рискованное лечение, интересовало лишь громкое имя уморительного карлика; кинофирмам нужно было лишь его талантливое уродство. А когда Тонио обрел совершенное тело, он перестал быть капиталом. Его прекрасная душа никому не нужна. Изменившаяся внешность отняла у него даже права юридического лица: его не признают за Тонио Престо.
Пока это была коллизия в духе Уэллса (вспомним роман «Пища богов»). Внося в свои сюжеты советскую идеологию и материалистическое мировоззрение, Беляев нередко сохранял схему старой фантастики. Ихтиандр скрывался в океане от «правосудия» мошенников, Сальватор попадал за решетку, профессор Доуэль гибнул. Престо, правда, сумел отомстить своим гонителям: он стал во главе шайки униженных и оскорбленных, с помощью чудодейственных препаратов доктора Сорокина превратил ярого расиста в негра. Но такой финал не удовлетворил Беляева. Переделывая роман, писатель возвысил Тонио до социальной борьбы. Артист взялся за режиссуру, ставил разоблачительные фильмы, повел войну с кинокомпаниями. Переделанный роман Беляев назвал: «Человек, нашедший свое лицо» (1940).
В романах, условно говоря, на биологическую тему (ибо, по существу, они шире) Беляев высказал самые смелые и оригинальные свои идеи. Но и здесь он был связан принципом научного правдоподобия. А в его голове теснились идеи и образы, не укладывавшиеся ни в какие возможности науки и техники. Не желая компрометировать жанр научной фантастики, к которому он относился очень серьезно, писатель замаскировал свою дерзость юмористическими ситуациями и шутливым тоном. Заголовки вроде: «Ковер-самолет», «Творимые легенды и апокрифы», «Чертова мельница» — как бы заранее отводили упрек в профанации науки. Это были шутливые рассказы. В них Беляев как бы спорил с самим собой — испытывал сомнением популяризируемую в его романах науку. Здесь велся вольный поиск, не ограниченный ни возможностями науки, ни традиционной формой научной фантастики. Здесь начиналась та фантастика без берегов, с которой, вероятно, хорошо знаком современный читатель. Небольшие новеллы избавляли от необходимости детально обосновывать те или иные гипотезы: сказочная фантастика просто не выдержала бы серьезного обоснования.
Но некоторая система все же была и здесь. Изобретения профессора Вагнера — волшебные. А Вагнер среди героев Беляева — личность особенная. Он наделен сказочной властью над природой. Он перестроил собственный организм — научился выводить токсины усталости в бодрствующем состоянии («Человек, который не спит»). Он пересадил слону Хойти-Тойти мозг погибшего ассистента («Хойти-Тойти»). Он сделал проницаемыми материальные тела, и сам теперь проходит сквозь стены («Человек из книжного шкапа»). И этот Мефистофель нашего времени пережил революцию и принял советскую власть…
Меж фантастических юморесок прорисовывается образ не менее значительный, чем гуманист Сальватор в романе «Человек-амфибия», или антифашист Лео Цандер в романе «Прыжок в ничто». Немножко даже автобиографический — и в то же время сродни средневековому алхимику. В иных эпизодах профессор Вагнер выступает чуть ли не бароном Мюнхгаузеном, а другие настолько реалистичны, что напоминают о вполне реальных энтузиастах-ученых трудных пореволюционных лет («Человек, который не спит»). Это-то и заставляет нас, читателей, слой за слоем снимать с вагнеровских чудес маскирующие вуали юмора и приключенчества. Этот сложный сплав сказки с научной фантазией дает нам почувствовать какую-то долю возможного в невозможном. Мол, не таится ли в такой вот «научной сказке» тоже какой-то зародыш открытия? Фигура Вагнера возникла у Беляева, чтобы замаскировать и в то же время высказать эту мысль. Трудно иначе понять, почему она прошла через целый цикл новелл, трудно подыскать другое объяснение тому, что автор добротных научно-фантастических произведений обратился вдруг к такой фантастике.
«Изобретения профессора Вагнера» были как бы штрихами нового облика знания, который еще неотчетливо проглядывал за классическим профилем науки начала XX века. Фигура Вагнера запечатлела возвращение фантастической литературы, после жюльверновских ученых-чудаков и практичных ученых в романах Уэллса к каким-то чертам чародея-чернокнижника. Таинственное его всемогущество сродни духу науки нашего XX века, замахнувшегося на «здравый смысл» минувшего столетия. Открыв относительность аксиом старого естествознания, современная наука развязала поистине сказочные силы, равно способные вознести человека в рай и повергнуть в ад. Беляев уловил, хотя вряд ли до конца осознал, драматизм Вагнеров, обретших такое могущество.
Автор «Прыжка в ничто» и «Продавца воздуха», «Острова погибших кораблей» и «Человека, нашедшего свое лицо», «Отворотного средства» и «Мистера Смеха», Беляев, владел широким спектром смешного — от мягкой улыбки до ядовитой иронии. Многие страницы его романов и рассказов запечатлели дарование сатирика. Оно и по природе близко фантасту, а талант смешить свойствен был Беляеву и в жизни. Писатель часто переосмыслял юмористические образы и коллизии в фантастические и, наоборот, фантастические — в сатирические и разоблачительные.
В романе «Прыжок в ничто» романтическая фабула космического путешествия оборачивается гротескной метафорой. О своем бегстве на другие планеты капиталисты возвышенно говорят, как о спасении «чистых» от революционного потопа, нарекают ракету ковчегом… А святой отец, отбирая лимитированный центнер багажа, отодвигает в сторону пищу духовную и набивает сундук гастрономическими соблазнами. Попытка «чистых» финансовых воротил и светских бездельников, церковника и реакционного философа-романтика — основать на «обетованной» планете библейскую колонию потерпела позорный крах. Перед нами кучка дикарей, готовых вцепиться друг другу в глотку из-за горстки бесполезных здесь, на Венере, драгоценных камней.
В творчестве Беляева нашла продолжение традиция сатирической фантастики Алексея Толстого и, может быть, Маяковского. Некоторые образы капиталистов у него близки памфлетам Горького на служителей Желтого Дьявола. Беляев внес свою лепту в формирование на русской национальной почве фантастического романа-памфлета. Л. Лагин в романе «Патент АВ» шел по следам биологической гипотезы, использованной Беляевым в двух романах о Тонио Престо. Однако в отличие от Лагина для Беляева фантастическая идея представляла самостоятельную ценность. Он и в сатирическом романе не удовлетворялся использованием ее в качестве простого трамплина к сюжету. В некоторых ранних произведениях Беляева условным фантастическим мотивировкам соответствовал такой же условный, лубочный гротеск в духе «Месс-Менд» Мариэтты Шагинян и «Треста Д. Е.» Ильи Эренбурга. В зрелом «Прыжке в ничто» и в романах о Тонио Престо реалистическая гиперболизация соотнесена уже с научной фантазией.
Наконец, Беляев сделал объектом научно-фантастического исследования самую природу смешного. Жизнерадостный человек и большой шутник, писатель в юности был незаурядным комедийным артистом-любителем. Психологическая правда злоключений Тонио Престо имеет, может быть, и автобиографическое происхождение. Герой рассказа «Мистер Смех» (1937) Спольдинг, изучающий перед зеркалом свои гримасы, — это отчасти и сам Беляев, каким он запечатлен на шутливых фотографиях из семейного альбома, что опубликованы в восьмом томе его Собрания сочинений.
Спольдинг научно разработал психологию смеха и добился мировой славы, но в конце концов оказался жертвой своего искусства — «Я анализировал, машинизировал живой смех. И тем самым я убил его… И я, фабрикант смеха, сам больше уже никогда в жизни не буду смеяться». Впрочем, дело сложнее: «Спольдинга убил дух американской машинизации», — заметил врач.
В этом рассказе Беляев выразил уверенность в возможности исследования эмоциональной жизни человека на самом сложном ее уровне. Размышляя об «аппарате, при помощи которого можно было бы механически фабриковать мелодии, ну, хотя бы так, как получается итоговая цифра на арифмометре», писатель в какой-то мере предугадал возможности современных электронных вычислительных машин (известно, что ЭВМ «сочиняют» музыку).
Художественный метод Беляева, чье творчество обычно относили к облегченной, «детской» литературе, на поверку глубже и сложней. На одном его полюсе — полусказочный цикл о волшебствах профессора Вагнера, а на другом — серия романов, повестей, этюдов и очерков, популяризировавших реальные научные идеи. Может показаться, что в этой второй линии своего творчества Беляев был предтечей современной «ближней» фантастики. Ее установка: «на грани возможного», объявленная в 40-50-е годы магистральной и единственной, привела к измельчению научно-фантастической литературы. Но Беляев, популяризируя реальные тенденции науки и техники, не прятался за науку признанную.