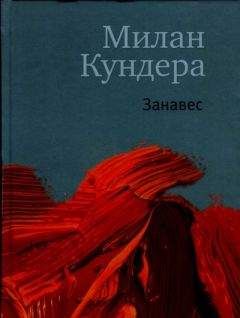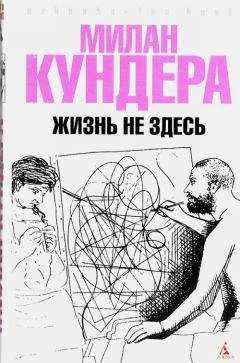Остановимся на этом предложении: какова, в самом деле, разница между контекстом Броха—Свево— Гофмансталя и контекстом Броха—Джойса—Жида? Первый контекст литературный в широком и расплывчатом смысле слова; второй — специфически романический (Брох говорит о связи с Фальшивомонетчиками Жида). Первый контекст — это малый контекст, то есть местный, центральноевропейский. Второй — это большой контекст, то есть международный, мировой. Ставя себя рядом с Джойсом и Жидом, Брох настаивает на том, чтобы его роман рассматривался в контексте европейского романа; он понимает, что Лунатики, как и Улисс или Фальшивомонетчики,— произведение, которое совершает переворот в форме романа, создает новую эстетику романа, и что понять ее можно только на фоне истории романа как такового.
Это требование Броха относится к любому значительному сочинению. Я не устану его повторять: ценность и значение произведения можно понять лишь в большом международном контексте. Эта истина особенно справедлива по отношению к каждому художнику, находящемуся в относительной изоляции. Французский сюрреалист, автор «нового романа», представитель натурализма XIX века — все они были принесены одним поколением, одним всемирно известным литературным движением, их эстетическая программа, если так можно выразиться, предвосхищает их творчество. Но куда отнести Гомбровича? Как понять его эстетику?
Он покидает страну в 1939 году в тридцать пять лет. В качестве удостоверения личности художника он увозит с собой одну-единственную книгу Ferdydurke, гениальный роман, почти неизвестный в Польше, впрочем совершенно неизвестный. Он высаживается далеко от Европы, в Аргентине. Он немыслимо одинок. Крупные аргентинские писатели так и не сблизились с ним. Польских эмигрантов-антикоммунистов мало занимало его искусство. В течение четырнадцати лет его положение не меняется, и к 1953 году он начинает писать и издавать свой Дневник. Оттуда мало что можно почерпнуть о его жизни, это, прежде всего, изложение его позиции, непрерывная эстетическая и философская самоинтерпретация, учебник по его собственной «стратегии» или, скорее, это его завещание; не то чтобы он думал о смерти: он хотел оставить в качестве окончательной и последней воли собственное понимание самого себя и своего творчества.
Он ограничивает свою позицию тремя ключевыми отказами: отказом подчиняться политической ангажированности польской эмиграции (не потому, что настроен прокоммунистически, а потому, что ему претит ангажированность искусства); отказом от польской традиции (по его мнению, можно сделать что-то стоящее для Польши, только когда воспротивишься «полонизму», когда стряхнешь тяжкий груз его романтического наследия); и, наконец, отказом от западного модернизма шестидесятых годов, модернизма стерильного, «нелояльного по отношению к действительности», бессильного в искусстве романа, школярского, снобистского, растворенного в самотеоретизировании (не то чтобы Гомбрович был меньшим модернистом, но его модернизм иного рода). Самый важный, решающий и одновременно упорно неверно понимаемый «пункт завещания» — третий.
Роман Ferdydurke был опубликован в 1938 году, в том же году, что и Тошнота, но Гомбрович безвестен, а Сартр знаменит, можно сказать, что Тошнота захватила в истории романа место, отведенное Гомбровичу. В то время как в Тошноте экзистенциалистская философия напялила на себя романический наряд (словно ради того, чтобы разбудить дремлющих учеников, учитель решил провести урок в форме романа), Гомбрович написал настоящий роман, который восстанавливает связь со старинной традицией комического романа (как у Рабле, Сервантеса, Филдинга), так что экзистенциальные проблемы, которыми он был одержим не меньше, чем Сартр, у него выступают в несерьезном и забавном свете.
Ferdydurke относится к тем выдающимся произведениям (как Лунатики, как Человек без свойств), которые вводят, по моему мнению, «третий тайм» в историю романа, воскрешая забытый опыт добальзаковского романа и захватывая области, которые до того отводились лишь философии. То, что Тошнота, а не Ferdydurke стала образцом этой новой ориентации, имело досадные последствия: первая брачная ночь философии и романа нагнала на обоих лишь скуку. Открытые через двадцать, тридцать лет после написания произведение Гомбровича, произведения Броха и Музиля (и, разумеется, Кафки) уже не обладали достаточной притягательностью, чтобы соблазнить целое поколение и создать новое направление; интерпретируемые иной эстетической школой, во многом им противоположной, они вызывали почитание, даже восхищение, но оставались не поняты, так что великий переворот в истории романа нашего века прошел незамеченным.
То же самое, как я уже говорил, произошло и с Яначеком. Макс Брод стал служить ему, как служил Кафке: с бескорыстным пылом. Воздадим ему эти почести: он стал служить двум самым крупным художникам, которые когда-либо жили в стране, где я родился. Кафка и Яначек: оба недостаточно оцененные; у обоих трудная для восприятия эстетика; оба жертвы малости их среды. Прага явилась для Кафки огромным препятствием. Он оказался там в изоляции от литературного и издательского мира Германии, и это имело для него роковые последствия. Его издатели уделяли очень мало внимания этому автору, почти не зная его лично. Иоахим Унзельд, сын крупного немецкого издателя, посвящает этой проблеме целую книгу и показывает, что именно в этом заключалась самая вероятная причина того (и мне это кажется весьма правдоподобным), что Кафка не заканчивал свои романы, которых никто от него не требовал. Ибо если у автора нет реальной перспективы издать свою рукопись, ничто не может заставить его внести последний штрих, ничто не мешает ему временно оторваться от письменного стола и заняться чем-то другим.
Для немцев Прага была всего лишь провинциальным городом, как Брно для чехов. Выходит, что оба — и Кафка, и Яначек — были провинциалами. Тогда как Кафка был почти неизвестен в стране, жители которой были для него чужими, Яначек в той же стране был опошлен своими же.
Тот, кто хочет убедиться в эстетической некомпетентности основателя кафковедения, должен прочесть его монографию о Яначеке. Восторженная монография, которая, безусловно, очень помогла не нашедшему понимания мэтру. Но до чего она слаба, до чего наивна! В ней много высоких слов: космос, любовь, сострадание, униженные и оскорбленные, божественная музыка, гиперчувствительная душа, нежная душа, душа мечтателя,— но отсутствует структурный анализ, отсутствует попытка понять подлинную эстетику музыки Яначека. Зная ненависть пражского музыковедения по отношению к провинциальному композитору, Брод хотел доказать, что Яначек являлся частью народной традиции и что был вполне достоин очень великого Сметаны, идола национальной чешской идеологии. Брод до такой степени увлекся этой нудной провинциальной чешской полемикой, что вся на свете музыка улетучилась из его книги, а изо всех композиторов всех времен там упоминается один лишь Сметана.
Ах, Макс, Макс! Никогда не следует стремиться оказаться на территории противника! Там ты найдешь лишь враждебную толпу, продавшихся судей! Брод не воспользовался своим положением нечеха, чтобы перевести Яначека в большой контекст, космополитический контекст европейской музыки, единственный, где его могли защитить и понять; он снова заключил его в национальные рамки, оторвал от модернистской музыки и замуровал в одиночке. Первые интерпретации прирастают к произведению, ему от них не отделаться. Так же как мысли Брода всегда будут присутствовать во всей кафковедческой литературе, так и Яначек всегда будет страдать от ярлыка провинциальности, навешенного на него соотечественниками и заверенного Бродом.
Загадочный Брод. Он любил Яначека; он руководствовался не задними мыслями, а лишь чувством справедливости; он любил его за главное, за его искусство. Но не понимал это искусство.
Я никогда не разгадаю тайну Брода. А Кафка, что он думал о нем? В своем дневнике, датированном 1911 годом, он рассказывает: однажды они вдвоем пошли к художнику-кубисту Вили Новаку, который только что закончил серию портретов Брода, литографии; в манере, известной нам от Пикассо, первый рисунок был верен оригиналу, в то время как остальные, по словам Кафки, все больше и больше удалялись от него, а последний был совершенно абстрактным. Брод чувствовал себя неловко; ему не понравились эти рисунки, кроме первого, реалистического, который, напротив, был очень ему по душе, потому что, как замечает Кафка с ласковой иронией, «помимо портретного сходства ото рта и глаз расходились благородные и спокойные линии…».