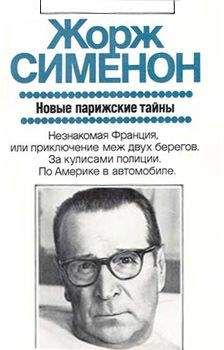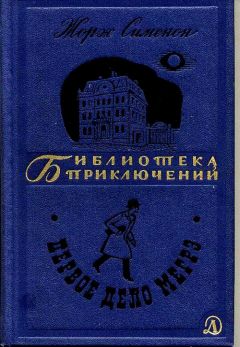— Кто был под кокосовой пальмой?
— Хозяин…
Это совершенно неправдоподобно. Не станет женщина лезть на пальму ради того, с кем живет не один год.
— Кто был под кокосовой пальмой?
— Не знаю…
Однажды вечером судья зовет Боба, отсылает секретаря, запирает дверь на два оборота.
— Скажи, как зовут твою любовницу?
— У меня нет любовницы.
— Да ладно тебе! Неужели ты три года обходишься без женщины?
Я хорошо знаю этого судью: он, между прочим, не кадровый судейский чиновник, а просто администратор, корсиканец родом.
— Ты никогда не спал с любовницей твоего хозяина?
— Никогда.
— И не пытался?
— Разумеется, нет.
Это противозаконно, сами понимаете, но надо же как-то выпутываться! В Англии беспокоится семья обвиняемого. А сам обвиняемый настолько пал духом, что, того и гляди, покончит с собой.
Пускай не сердится на меня мой друг судья за то, что я так скверно рассказываю об этом деле, но я вынужден упрощать повествование и немного подтасовывать факты, чтобы меня поняли те, кто живет в тысячах лье от этих мест.
Допрос длится пять, а то и все шесть часов.
— Я приказал разыскать одежду, которая была на тебе в тот вечер. Ее принесут с минуты на минуту.
Тут Боб обнаруживает признаки беспокойства; через полчаса он начинает всхлипывать.
Исповедь его звучит жалобно. На плантации не было других женщин, кроме этой, которая теперь убита; три года Боб желал ее, думал о ней и в конце концов полюбил по-настоящему, а вернее, поддался нерассуждающей, неодолимой и тягостной страсти.
Когда туземка приходила к англичанину, он мучился, ловил малейший звук, изводил себя…
Будь эта женщина даже прекраснейшим созданием на свете, подобная любовь, похожая на навязчивую идею, на одержимость, едва ли могла вспыхнуть где-нибудь еще, кроме как на этом острове, где ничего и никого нет, где рядом с Бобом только один белый и только одно доступное существо женского пола.
Боб и обожает хозяина, и ненавидит. Боба одолевают чудовищные и восхитительные грезы.
Должно быть, эта мартышка его разгадала. Как-никак, она тоже дочь Евы; в тот вечер ее поколотили, она уходит избитая и чувствует, что Боб идет за ней по пятам, она хочет отомстить своему любовнику… Она хочет на ком-нибудь отыграться, хочет потешиться над белым человеком…
И вот она лезет на пальму — для нее это самый обычный поступок, а вместе с тем в нем есть нечто невообразимое: белый карабкается за ней, вместе с ней падает на землю, негритянка отбивается, и он в диком бешенстве душит ее, а после бросает неподвижное тело в зарослях…
Далее последовали вороха бумаг, нескончаемые допросы в душной, как парилка, комнате — и наконец англичанина отпустили; он вернулся к себе на плантацию, где его ждали только предатели-азиаты; любовь его была опозорена и выставлена на всеобщее обозрение.
Он так спешил, что даже не стал продавать свое имущество. Он уехал. Не в Лондон — тамошняя родня обо всем знала, и этого было для него достаточно: он никогда больше их не увидит.
Вероятно, он уехал на другой, еще более отдаленный и унылый остров.
Приговор Бобу еще не вынесен; вероятно, он получит не менее десяти лет тюрьмы.
Выпускник Политехнической школы и слуга-звонок
Реальные пейзажи никогда не совпадают с теми, которые мы себе вообразили, то же относится и к реальным драмам; объясняется это, быть может, тем, что, поддаваясь воображению, мы не учитываем одного неодолимого фактора — повседневности, которая настигает нас и на другом конце земли, не щадит в самые волнующие минуты жизни.
Я готов поклясться, что приблизительно такие мысли бродили в тот день в голове у Жоли. Не прошло еще и суток с тех пор, как он высадился в небольшом населенном пункте на побережье, и вот уже Африка казалась ему унылой и однообразной.
В сущности, что он видел? Ожидая назначения, он поселился в железобетонном здании гостиницы, где имелся настольный теннис да музыкальная машина. То, что именовалось здесь городом, представляло собой одну-единственную длинную улицу, по обе стороны которой торчали пальмы да лавчонки, где торговали всякой всячиной — велосипедами, ламповыми стеклами, датским маслом в пачках.
Что еще? Его приняли в клуб, как две капли воды похожий на офицерские клубы. Президентом клуба был некий доктор; он рассказывал случаи из практики, и по его словам выходило, что разрезать пациенту живот ничуть не сложней, чем съесть ананас.
С Жоли обходились вежливо, быть может, с легким оттенком иронии, проистекавшей от зависти — ведь он окончил Политехническую школу и сразу после выпуска был назначен главным инженером общества, которое прокладывало в джунглях железную дорогу.
Воистину, повсюду все одно и то же! И лишь одна деталь с самого начала обеда не дает покоя нашему инженеру. За столом прислуживают слуги-туземцы в нарядных белых куртках. Однако рядом с лекарем, восседающим во главе стола, стоит туземец с обнаженным торсом, демонстрируя роскошную пупочную грыжу. Стоит и ничего не делает. Время от времени доктор нажимает на грыжу указательным пальцем, и живот слуги немедля издает звук, похожий на звук электрического звонка.
Похоже, сотрапезники не видят в этом ничего особенного. Жоли не хочет оказаться в положении новобранца: он догадывается, что нравы здесь сродни казарменным, и старички глубоко презирают новичков.
— Значит, вы на будущей неделе уезжаете? — спрашивают у него.
— Конечно. Укладка путей уже ведется в четырехстах километрах отсюда.
Вежливое молчание. Его железная дорога никого не интересует.
— Я уже подумываю о том, чтобы снаряжать мой караван в путь, — небрежно добавляет Жоли. — Мне понадобится несколько слуг, на которых можно было бы положиться…
— Нанимайте пять человек, — заявляет доктор. — Это будет в самый раз.
— А что, у вас так принято?
— Черт возьми! Два повара, два лакея и слуга-звонок. Никто и бровью не ведет, никто не думает улыбаться.
Жоли, смутившись, ждет продолжения, а сам невольно поглядывает на негра, стоящего возле доктора.
— Вам известно, что такое слуга-звонок?
— Честно говоря, неизвестно.
— Поглядите на этого парня. Один из лучших образчиков. Таков местный обычай! Нажмите-ка сами!
Жоли надавливает на пупочную грыжу и извлекает из туземца продолжительный звонок.
— Удобно, не правда ли?
Все пьют, едят, рассказывают разные случаи; засиживаются допоздна, как это могло бы быть где угодно, а назавтра Жоли, слегка страдая от похмелья, принимается за хлопоты по хозяйству.
— Вы не знаете, где можно нанять слугу-звонок? — спрашивает он каждого встречного-поперечного.
Его шлют то туда, то сюда. Гоняют за несколько километров под палящим солнцем; наконец, почтовый служащий прыскает со смеху и, сжалившись над ним, говорит:
— Так значит, и вы попались на удочку!
У Жоли остался отвратительный осадок; он уехал, ни с кем не попрощавшись. Одни любят розыгрыши, другие не любят, и Жоли принадлежал к этим последним. Он всегда был работягой. В Париже перед отъездом он основательно изучил вопросы строительства железных дорог и высказал административному совету компании предложения, которые поразили этих господ смелостью и оригинальностью.
А здесь, на, потеху туземцам, с ним сыграли шутку, достойную, самое большее, Латинского квартала! Нашли время!
К тому же эти люди — бездельники; живя в Африке, они не верят в нее, и Жоли уже начинает на них раздражаться. Он-то верит, верит во все! Он из породы энтузиастов и хочет стать крупным деятелем! Ему тридцать лет! Всю жизнь он жил вместе с матерью и сестрой; несмотря на то что почта уходит отсюда раз в три недели, каждый вечер перед сном он пишет им по длинному письму.
О случае со слугой-звонком он умалчивает, но в письмах уже проскальзывает некоторая горечь.
«Кругом завистники, — пишет он. — Я тут из инженеров самый младший и вдруг оказался над ними начальником».
Проходят два-три месяца; Жоли с другим белым, тоже инженером, по фамилии Треву, живет в хижине, которую Треву построил из шпал и гофрированного железа.
Они живут там, где кончается железнодорожное полотно, в чаще девственного леса; вокруг их лачуги располагаются три десятка негров.
Сорокалетний Треву похож на завсегдатаев клуба, на тех, кто веселится, рассказывая всякие случаи из жизни, и не верит в Африку.
Когда приехал Жоли, Треву сказал ему:
— Вот что, старина. Кровать для тебя имеется. Провизии у нас осталось на месяц. Можешь дрыхнуть, сколько душа просит…
— А работа?
— Работы нет.
Треву указал на три десятка негров и негритянок, ютящихся на поляне.
— Нам положено иметь тысячу рабочих-туземцев. Это на бумаге. Может, они и были раньше, но давно вернулись в лес. Через месяц будет уже не тридцать, а трое. Через два месяца мы останемся здесь одни.