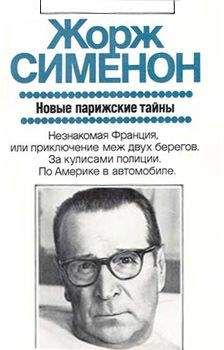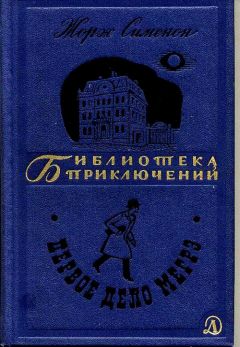— Очень холодно, — сказал кто-то, — дело в том, что всю последнюю неделю дует южный ветер…
Разумеется! А северный ветер дует у них с экватора и пышет жаром…
Набережную заполонила толпа, многие мужчины были в пальто и с зонтами в руках, женщины в меховых накидках…
Уже заработали краны. С нашего корабля выгружали апельсины, привезенные с островов.
Повсюду, как на вокзалах, разъезжали автокары, за которыми тянулись длинные цепочки тележек.
Что делать в городе в семь утра? Облокотившись на ограждение, я разглядывал толпу на набережной и сам не заметил, как засмотрелся на человека, управлявшего одним из автокаров.
На нем был костюм из синего в белую полоску сукна, подходящий скорее для прогулки по бульвару. На голове у него красовалась фетровая шляпа жемчужно-серого цвета, весьма щегольская.
Восседая на сиденье автокара, он бесстрастно манипулировал рычагом, подгоняя пустые тележки поближе к кораблю и прицепляя груженые, чтобы везти их под навес.
Повторяю, шел дождь. Пальцы у меня закоченели от холода; я подумал: «Этот человек наверняка француз!»
Почему? Понятия не имею. Интуиция… Что-то мне говорило, что человек в серой шляпе непременно должен оказаться французом. Он был молодой, белокурый.
Я продолжал наблюдать за ним, и два-три раза наши взгляды встретились.
Часов в девять я сошел на берег и, проходя мимо, нарочно толкнул его и громко извинился.
Он глянул на меня с улыбкой, но промолчал.
— Вы не француз? — спросил я.
— Француз. Я сразу понял, что вы мой соотечественник.
— Откуда вы узнали?
— Осторожно!.. Мне пора.
Лавируя, он повез вереницу тележек между грузовиками и паровозами. Но в полдень я увидел его снова — он направлялся к ресторану.
— Вы давно в Новой Зеландии?
— Года три.
Ресторан был какой-то чудной, похожий скорее на школьную столовую; к каждому блюду, не дожидаясь просьбы, приносили стакан воды. Еда была безвкусной.
— Вам по душе эта страна?
Он пожал плечами и объяснил:
— Здесь у меня есть работа.
Мне хотелось чем-нибудь его угостить, аперитивом или бутылкой вина, но ничего подобного тут, по-видимому, не подавали.
— Вы один?
— Один как перст. Прежде работал на ферме.
И ни с того, ни с сего спросил меня в лоб:
— А вы именно так представляли себе эту страну?
— Не совсем. Но фермы здесь, наверно, и впрямь прекрасные. Я слыхал, что в некоторых хозяйствах держат по нескольку десятков тысяч овец…
— Ну и что?
— Увлекательно все же: природа, просторы…
Ему уже надо было уходить. Его ждал автокар; к вечеру, увидев его снова, я уже кое-что понял.
— Вы ведь, — обратился я к нему, — покинули Францию ради приключений…
— В самую точку, — ухмыльнулся он. — Я покинул бары на Елисейских полях и на площади Мадлен ради этих самых приключений и ради денег. Моя фамилия Милле…
— Вы не родственник знаменитому адвокату?
— Сын… Так что вы теперь все знаете. Помните, в свое время едва не дошло до скандала: я подписал фальшивые векселя, отец уплатил по ним и потерял на этом все состояние… Вот я и решил попытать счастья, уехать на самые жаркие, самые пустынные острова Океании…
— Но, по-моему, в Новой Зеландии как раз холодно и…
Взглянув мне прямо в глаза, он перебил:
— Так вы полагаете, что все попадают туда, куда хотели? Никогда этого не бывает, можете мне поверить! Если едешь, куда глаза глядят, в конце концов застреваешь там, куда тебе меньше всего хотелось…
Верно. Я задумался и сразу припомнил всех, с кем встречался…
— Когда я сюда приехал, пришлось ждать месяц, пока прибудет пароход, идущий на Фиджи. Один тип предложил мне дельце с лотерейными билетами, и в три дня я потерял все свои деньги.
Он ни разу не засмеялся. Говорит, и с губ его не сходит сардоническая улыбка; в тридцать лет он невозмутим, как пятидесятилетний англичанин.
— Тогда я себе сказал, — продолжает он: — «Не беда! Будешь ковбоем на большой ферме где-нибудь в глубине страны!» И поехал. Оказалось — вместо лошадей теперь тракторы. Меня спросили, в профсоюзе ли я, и мне понадобилось три месяца, чтобы в него вступить. Представляете, на фермах никакого навоза, фермеры носят шляпы-котелки, у каждого сад с бассейном, отдельная ванная комната.
Я едва удержался от улыбки, уловив в его словах глухую ярость. Он возбужденно продолжал:
— А здесь? Вы полагаете, я могу в полдень сжевать кусок колбасы прямо в тени моего кара? Нет уж, извините! Я сознательный труженик, объединенный в профсоюз, и, по здешним представлениям, равен любому банкиру. Мне подобает питаться в приличном ресторане, где меня кормят вот такой гадостью и подают стакан воды. Хотите выпить? Извольте бежать в бар — унылый, с матовыми стеклами в окнах, похожий на общественную уборную, а не на бар. А после шести вечера, кроме воды, вообще ничего не выпьешь… По воскресеньям до четырех дня ни трамваев, ни поездов… Да я…
Я рассмеялся, но мне было жаль его до слез. Не правда ли, он достоин жалости больше всех моих неудачников?
Уехал в поисках солнца, в поисках свободы, а застрял в унылом, дождливом порту.
Мечтал о долгих сиестах в тени тропических деревьев, о бешеной скачке верхом, о полуголых туземках. Вместо этого он, прилично одетый, солидный, восемь часов в день водит автокар с одного конца набережной на другой.
Ему отказано даже в горестном утешении сознавать себя парией: новозеландцы провозгласили всеобщее равенство и обеспечивают каждого минимальным комфортом и чувством собственного достоинства.
Так что угодил наш Милле после ресторанов Фуке и Максима в самый что ни на есть тихий и захолустный город.
Здесь есть кинотеатры, но курить в них запрещается, а все фильмы проходят строжайшую цензуру.
На улице ни днем, ни ночью вас не ждет даже самое невинное любовное приключение.
У вас есть право выпить, то только с пяти до шести, наспех, чуть не украдкой…
Зато у каждого есть право повышать образование в Доме профессиональных союзов.
— И часто вы там бываете? — спросил я у Милле.
Он не ответил. По-моему, в иные минуты он, если бы мог, с удовольствием взорвал бы город Веллингтон и всю Новую Зеландию в придачу.
— Если бы только мне удалось устроиться помощником кочегара на какое-нибудь судно…
Да, но помощники кочегара тоже сплошь члены профсоюза, и в их корпорацию так, за здорово живешь, не попасть.
Оказывается, весь мир организован. Каждая страна понемногу надстраивает стены своих границ.
— Мне пришлось здесь натурализоваться, — признался мне в конце концов Милле. — Да, такие дела! Теперь я новозеландец, да к тому же еще и баптист.
Потом он спросил:
— Куда вы отсюда?
— В Нидерландскую Индию, потом — Коломбо, Бомбей и Франция…
— Не хотите нанять меня лакеем, бесплатно? Оставите меня потом, где захотите… Не такой уж я неумеха… Могу сбить любой коктейль…
Он усмехнулся — ему было жалко себя. Мы пожали друг другу руки и расстались; у него не хватало духу продолжать разговор.
Спустя три дня я вновь пересек тропики; опять пришлось извлечь из чемоданов белые костюмы и шорты.
…И я опять вздохнул с облегчением, точь-в-точь как недавно, когда доставал шерстяной костюм и пальто…
Мне не терпелось увидеть на первом же острове вместо корректного члена профсоюза, восседавшего за рычагами автокара, загорелых полуголых туземцев, которые будут кричать и ссориться из-за моего багажа.
Человек, отказавшийся быть судьей
Быть может, меня уличат в пессимизме и намекнут, что ждали от меня случаев посмешней. С удовольствием!
Между прочим, случаи, о которых я рассказываю, на самом деле достаточно смешны. Только вот конец у них отнюдь не смешной.
Взять, к примеру, приключения человека, которого я назову Шоле… В те времена, когда Париж жил на широкую ногу и все можно было купить, Шоле был элегантным молодым человеком и сорил деньгами. Помните милейшего Ги Давена, который ради того, чтобы иметь возможность по-прежнему прожигать жизнь на Монпарнасе, убил некоего англичанина и сбросил его с моста в Сену?
Шоле мог бы оказаться его братом или кузеном, разве что отличался большей ловкостью. Почтенная семья, не хуже других. Большие аппетиты. И тот неуловимый налет элегантности, что открывает человеку доступ во все места, где можно поразвлечься. Баронесса Вагнер с Галапагосских островов принадлежала, если можно так выразиться, к той же породе. Они с Шоле посещали одни и те же бары, одни и те же салоны. По всей вероятности, они были знакомы.
Оказавшись на мели, баронесса продала драгоценности, принадлежавшие не ей; Шоле за сто или сто пятьдесят тысяч франков сплавил картины, оставленные ему на хранение.