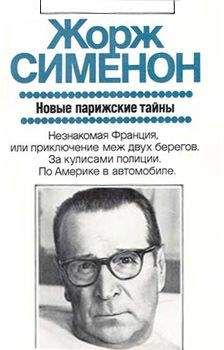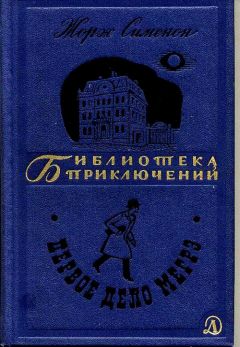Когда приехал Жоли, Треву сказал ему:
— Вот что, старина. Кровать для тебя имеется. Провизии у нас осталось на месяц. Можешь дрыхнуть, сколько душа просит…
— А работа?
— Работы нет.
Треву указал на три десятка негров и негритянок, ютящихся на поляне.
— Нам положено иметь тысячу рабочих-туземцев. Это на бумаге. Может, они и были раньше, но давно вернулись в лес. Через месяц будет уже не тридцать, а трое. Через два месяца мы останемся здесь одни.
— А как же компания?
— Компания в Париже, в здешних делах она ничего не смыслит! Со строительным материалом — та же чертовщина. На днях получаю полный вагон болтов, а про гайки забыли. Прошу лопаты — присылают динамит, а если попрошу динамит…
Жоли слушает его с недоверием. Несколько недель он занимается инвентаризацией инструментов и строительных материалов, потом решает во что бы то ни стало набрать рабочих; он проводит в лесу несколько изнурительных дней, пытаясь уговорить туземцев.
Все это время тучный, бледный Треву целыми днями спит. Знаете, каково то единственное занятие, которое он себе нашел? Он смастерил бильбоке и, чуть проснется, забавляется им, сидя на краю походной кровати.
Жоли негодует. У него зарождаются подозрения; когда исчезают двое только что нанятых негров, он начинает поглядывать на своего товарища испытующим взглядом.
Кто знает, вдруг Треву нарочно препятствует строительству дороги? Вдруг он сам советует неграм дезертировать?
Вдобавок, ест он за четверых, и запасы провизии тают. Манеры у него невыносимые: первый накидывается на еду, выбирает куски получше.
И вот однажды Треву протягивает ему тарелку, а Жоли, усталый после долгого хождения по лесу, просто-напросто плюет в эту тарелку.
«Теперь-то он поймет!» — думает Жоли.
Он останется голодным, ну и пусть! Однако Треву ровным счетом ничего не понял: он преспокойно съедает свою порцию, а потом ту, в которую Жоли плюнул.
Вот до чего дошло за полтора месяца! Опасаясь предательского удара из-за угла, Жоли перегораживает хижину пополам, мастерит дверь, прилаживает надежный висячий замок и запирается перед сном.
Работа застопоривается из-за того, что негры дезертируют? Прекрасно! Он покончит с дезертирством!
Отныне он часами караулит негров, и стоит им отойти на десять метров, как он внезапно вырастает перед ними и уводит обратно в лагерь.
Ему передается хитрость дикарей. Он научился ползать, прячась за охапкой травы и потихоньку толкая ее впереди себя…
Может быть, их слишком мало для работы на строительстве, но уж те, кто есть, останутся по крайней мере в распоряжении компании!
Треву спит, играет в бильбоке. Жоли не разговаривает с ним. К тому же он решил отныне готовить для себя отдельно, и после ряда недоразумений, вызванных тем, что оба они молчат, им удается поделить плиту. Каждый имеет право стряпать на ней в течение часа; то же со сковородой и с кастрюлей.
Затем они делят продукты, и положение еще ухудшается: Жоли убежден, что сосед его обкрадывает.
Он не забыл приключения со слугой-звонком, и повсюду ему чудятся подвохи.
В сущности, все куда как просто: негры хотят дать тягу, того же хочет и Треву, у которого в кармане деньги, предназначенные для оплаты тысячи рабочих.
Проходят недели; Жоли присматривает да размышляет. От хинина у него шум в ушах, слуга ножом выковыривает у него между пальцами ног клещей, впившихся в кожу, — головки этих омерзительных толстых созданий извлекать так же трудно, как головки собачьих клещей.
Однажды негр, удиравший в лес вместе с женой, которая тащила на спине младенца, не пожелал вернуться и избил Жоли.
Вот до чего он дожил! А они там, в городе, собираются вечерами в клубе и со смехом угощают друг друга историей о слуге-звонке.
— Помните этого молокососа Жоли?
Жоли упрямо пытается хоть что-нибудь делать, хоть во что-нибудь верить. Треву спит. Негры ждут удобного случая для побега.
И постепенно в голове у выпускника Политехнической школы укореняется мысль. Эти люди, и белый, и негры, представляют угрозу для железной дороги. Они мешают работе и будут мешать ей впредь.
Там, где железнодорожное полотно делает поворот, есть паровоз и старый вагон…
День за днем Жоли наблюдает за своим товарищем и однажды вечером внезапно накидывается на него, связывает ему руки заранее припасенной веревкой.
Они долго борются. У Жоли разбита губа, но это не имеет значения: ему удается обмотать Треву веревкой, как колбасу.
Теперь очередь за неграми! Он зазывает одного из них в хижину, валит с ног ударом дубины и тоже связывает.
Борьба его опьяняет. Ему хотелось бы скрутить их всех, но на четвертом человеке он выбивается из сил и предпочитает воспользоваться револьвером, принадлежащим Треву.
— Все в вагон! — орет он. — Живо все в вагон, а не то стреляю!
Он запирает их — мужчин, женщин, детей. От лихорадки глаза у него безумные. Он сам тащит на спине связанного Треву, по пути два раза падает, обдирает кожу на коленях, из губы опять начинает сочиться кровь. Потом он перетаскивает связанных негров.
Его охватывает ощущение свободы. Он чувствует себя героем, усталость ему нипочем: он разжигает топку, приводит паровоз в движение.
Компания облекла его доверием, и это доверие следует оправдать хотя бы ценой собственной жизни…
И он гонит состав на всех парах. В висках стучит кровь. Он борется со сном, с лихорадкой…
— Их посадят в тюрьму… — бормочет он.
По пути он замечает небольшие станции, но не останавливается; лишь много часов спустя он наконец решается затормозить перед каким-то крупным поселением.
Вероятно, кто-то его предал. Его в чем-то подозревают, не иначе. Появляются жандармы, их четверо, они накидываются на него, как сам он накинулся на Треву, и связывают его, но не веревками — на него надевают смирительную рубашку.
Вскоре Треву рассказывал старым знакомым Жоли, посетителям клуба:
— Он в один миг спятил… Я был начеку, но он меня все-таки подстерег.
Жоли не допрашивают, а сразу запирают в какое-то темное помещение, где он проводит день за днем; позже его сажают на пакетбот.
Там его помещают не в каюте, а в трюме возле двигателей, в изоляторе с обитыми стенами.
К Дакару он повытаскивал из обивки все перо, всю шерсть и буквально утопал во всем этом.
В Бордо его увезли с парохода в «скорой помощи».
С тех пор прошло два года; сейчас Жоли поступил на должность инженера на сахарно-рафинадный завод в Сен-Кантене. Он собирается жениться; родители невесты места себе не находят.
— Ты же знаешь, что сказал врач… Приступы будут повторяться…
— Я буду за ним ухаживать, — отвечает невеста. Вот и все.
Авантюрист в профсоюзе
Никогда не забуду ощущения, которое испытал на рейде города Веллингтона, что в Новой Зеландии. Долгие месяцы я плавал в тропиках, одетый чаще всего в шорты, без рубахи. Самой нарядной моей одеждой был костюм или смокинг из белого полотна. И вот накануне описываемых событий, выйдя на палубу, я заметил, что пассажиры одеты в шерстяные костюмы.
Мне почудилась в этом некоторая несообразность. Я поинтересовался, в чем дело.
— Нынче вечером увидите! Будет страшный холод… — объяснили мне.
Холод! Я почти забыл, что это такое.
И еще один сюрприз ждал меня в тот день: я увидел, что в десять часов эти же пассажиры направились в большой салон, где происходило протестантское богослужение.
— Сегодня же не воскресенье, — заметил я кому-то из пассажиров.
— Нет, воскресенье!
— Позвольте! Вчера была пятница…
— Правильно. А сегодня воскресенье. На этой неделе у нас с вами не будет субботы. Мы потеряли день, так как только что пересекли триста шестидесятый градус.
Небо заволокли тучи. Иногда проглядывало солнце, но это было вполне Цивилизованное солнце, такое же, как у нас дома; его жар можно вынести без шлема.
На следующее утро я присутствовал при том, как на борт поднялся лоцман, мужчина в темно-сером костюме и шляпе-котелке! Клянусь вам, я готов был его расцеловать!
Часом позже зарядил мелкий нескончаемый дождь, самый настоящий дождь, и мы завидели мокрые городские крыши, настоящие крыши — черепичные, шиферные, настоящие каменные и кирпичные дома, настоящие улицы с мостовыми и тротуарами!
Не знаю уж, какой я воображал себе Новую Зеландию, но, как бы то ни было, я разволновался так, словно внезапно перенесся в Бордо, Дьепп или Булонь. В лодках суетились рыбаки в непромокаемых плащах и зюйдвестках. Время от времени я замечал где-нибудь в глубине улицы дребезжащий трамвай.
Я и сам был одет в обычную одежду цивилизованного человека, а не в шорты цвета хаки и не в белый костюм китайского производства.