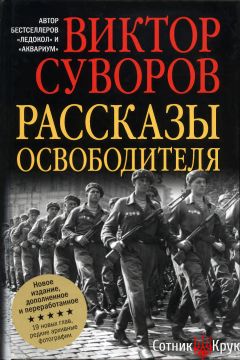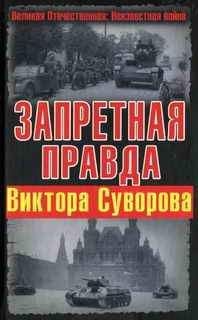Наконец, необходимо назвать еще одного участника власовского движения, убежденного в неизбежности нападения СССР на Германию, — но не в 1941-м, а весной 1942 г. В мае — июне 1941 г. полковник М. А. Меандров[330] занимал должность заместителя начальника штаба 6-й армии (I формирования), управление которой находилось во Львове (КОВО). Свою версию событий Меандров изложил в конце ноября 1945 г., будучи в американском лагере военнопленных № 26 в Ландсхуте (Бавария). Подробности частного разговора Меандрова с двумя пленными офицерами вермахта записал в своем дневнике участник Белого движения, генерал-майор С. К. Бородин, тоже служивший в 1945 году во власовской армии. Только благодаря записям Бородина, сохранилась оценка Меандрова.
«20. 11. [1945. — К. А.]. Сегодня вечером мы[331] устроили маленький ужин с немцами.[332] Был говорящий по-русски полковник Генерального штаба Лебели и майор Меле. Сделали тюрю с мясными консервами, которые дал Ассберг, и бисквиты и кофе на второе. Тарелками служили крышки от котелков. Просидели от 7 до половины десятого вечера. Полковник Лебель[333] хотел выяснить, были ли в действительности основания к принятому Гитлером решению напасть на СССР раньше, чем нападет СССР Генерал Меандров, как бывший начальник штаба корпуса[334] в Киевском военном округе, привел много данных, свидетельствовавших о том, что к весне 1942 г. СССР был бы готов к вступлению в войну.
Нападение СССР на Германию было неизбежно, и поэтому у Германии были действительные основания напасть первой. Генерал Ассберг говорил, что Германии не следовало бы в 1941 году нападать на СССР, а до 1942 г. следовало бы разгромить Англию. Однако полковник Лебель утверждал, что Германия в 1941 году была не готова к наступлению на Англию, и при этих условиях он считал, что Гитлер был прав, напав на СССР, но (говорили Лебель и Меле) Гитлер не подпер стратегию разумной политикой, не создав русского национального правительства и из пленных — русской национальной армии, а репрессивными мерами против населения и жестокостью в отношении военнопленных восстановил против Германии весь русский народ. Это привело к гибели всего дела Гитлера, к неисчислимым тяжелым последствиям для всех немцев, а также к задержке освобождения России от большевизма и к постановке большого вопроса: а что же будет дальше? В этом вопросе и в дальнейшем ходе англо-американской политики по отношению к СССР, и к коммунизму вообще, скрыта судьба человечества. СССР стремится привлечь на свою сторону всех немцев и всех китайцев. Генерал Меандров говорил: «Немцы сделают колоссальную по своим последствиям политическую ошибку, если, поддавшись льстивым планам СССР восстановления Германии, пойдут вместе с коммунизмом. Немцам следует во что бы то ни стало остаться в большинстве противниками большевизма, и лучше быть политически разъединенными, как теперь, чем превратиться в единую, но красную Германию». «Я все время об этом говорю своим товарищам», — ответил полковник Лебель, очевидно тем самым подтверждая наличие среди офицеров и генералов Генерального штаба взглядов, против которых был генерал Меандров. Семья полковника Лебель, находящаяся в советской зоне [оккупации Германии. — К. А.], писала ему: «Ни в коем случае не следует стремиться после освобождения к переезду сюда. Здесь очень плохо. Лучше нас отсюда вызволить».[335]
Итак, на основании выявленных свидетельств и показаний генералов и офицеров власовской армии попытаемся составить обобщающую таблицу.
Очевидно, что картина, которую нарисовали власовцы, вопреки мнению О. В. Вишлева, выглядит достаточно эклектичной. Во-первых, из одиннадцати свидетельств только 5 сделаны в военный период между 22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г. Прочие относятся к довоенному или послевоенному времени. Из показаний пяти власовцев, сделанных в годы войны, в одном случае нет указаний на подготовку к нападению на Германию (Трухин), а в другом генерал (Закутный) дал неопределенную оценку, фактически уклонившись от обсуждения темы. Во-вторых, из пяти сообщений, явно подтверждающих готовность СССР к нападению на Румынию или Германию (Власова, Баерского, Малышкина, Меандрова, Позднякова), только три сделаны в условной зависимости немецкого плена. И все пять расходятся в оценках вероятных сроков: неопределенны (Власов, Поздняков), осень 1941-го (Малышкин), август 1941-го — весна 1942-го (Баерский), весна 1942-го (Меандров). В-третьих, каждое из приведенных сообщений коррелируется с другими. Но ни одно не коррелируется более чем с четырьмя. Некоторые из заявлений (Койдыу Самыгина, Трухина) можно рассматривать в качестве противоречащих другим. Трудно обвинить в умышленном лжесвидетельстве Георгиевского, Закутного, Трухина, Меандрова, Койду и Самутина, хотя ни в одном случае нельзя исключать искренних заблуждений в оценках. Наконец, шесть свидетельств (Георгиевского, Закутного, Трухина, Койды, Самыгина, Самутина) из одиннадцати при умелой трактовке можно использовать в качестве доказательств любой версии возможного развития событий в мае — июне 1941 г.
Единственное объяснение, которое устраняет видимые противоречия и приводит все 11 показаний к общему выводу, заключается в следующем: каждый из очевидцев в меру собственных сил и возможностей постарался честно описать свое индивидуальное видение предвоенной ситуации. Содержание и характер всех приведенных свидетельств были обусловлены не последующим сотрудничеством власовцев с противником, тем более чьим-то желанием «понравиться гитлеровцам», а служебным положением конкретных лиц в мае — июне 1941 г. Поэтому разные показания участников власовского движения о последних предвоенных месяцах остаются ценным и до сих пор малоизученным источником, характеризующим подлинные планы и намерения высшей номенклатуры ВКП (б) накануне войны с Германией. Выявление и систематизация таких важных материалов продолжаются.
Георгий Рамазашвили
ГЕРОСТРАТ ИЗ АРХИВА
Герострат (греч. Нероатратоо), жаждавший славы житель Эфеса, по преданию в 356 до н. э. поджег храм Артемиды в Эфесе в ночь рождения Александра Македонского. В связи с этим кощунств[енным] поступком имя Г [ерострата] вошло в историю. В наст[оящее] время оно служит нарицательным («геростратово деяние»).
(Й Ирмшер, Р. Йоне, «Словарь Античности». — М.: СП «Внешсигма», 1992. С. 135.)
У тотальной секретности в Центральном архиве Министерства обороны есть свои сторонники. Одним из последних борцов за бдительность, мнительность, архивный изоляционизм и пристрастное отношение к исследователям являлся полковник в отставке Николай Шестопал, вплоть до декабря 2007 г. возглавлявший в ЦАМО фондохранилище личных дел.
В ассортименте его профессиональных приемов было сокрытие архивных дел, немотивированное уничтожение документов, отказ в предоставлении справочного аппарата и упоительное разоблачение политически неблагонадежных историков.
Автор статьи — исследователь, работавший более чем в 25 архивах на территориях бывших советских республик, попытался разобраться, каковы результаты почти четвертьвекового пребывания Шестопала в ЦАМО, и понять, являются ли использовавшиеся им приемы родовой болезнью ведомственных архивистов.
Будущий полковник Николай Шестопал родился 23 декабря 1942 г. Его отец, Иван Степанович Шестопал, в это время уже был на фронте.
О себе Николай Шестопал рассказывает, что он осиротел во время войны и почти до самого призыва жил в селе «на Диканьке». Действительно ли он оттуда родом или же полковник прибег к сравнению, вспомнив произведение Гоголя, уточнить не представляется возможным. Обстановку в послевоенном селе Шестопал описывал кратко: «Одни бабы, и я — один мужик — без штанов».
При первом знакомстве полковник производил приятное впечатление — несмотря на то что ему шел седьмой десяток, от затылка до поясницы у него тянулась идеальная прямая линия, словно бы позвоночник ему заменили металлическим стержнем. Держался он поначалу ровно, и казалось, что характер у Николая Ивановича столь же прям, сколь и его осанка. Увы, это впечатление было обманчивым.
Благодаря росту, превышавшему средний, этот уже седоволосый, с худощавым лицом отставник имел все преимущества, чтобы разговаривать с посетителями несколько покровительственно, почти сверху вниз. Однако этим преимуществом, которое без труда могло бы расположить к нему посторонних людей, архивист, очевидно, не умел пользоваться, ибо, вероятно, и не подозревал о нем.
Уже имея внуков, полковник в силу возраста должен был подавать сотрудникам пример достойного поведения, но, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, он оказался способен без зазрения совести лгать в глаза, а выправка, которую можно было ошибочно принять за отражение внутренней дисциплины, являлась всего лишь особенностью его комплекции и к развитию индивидуальной культуры не привела.