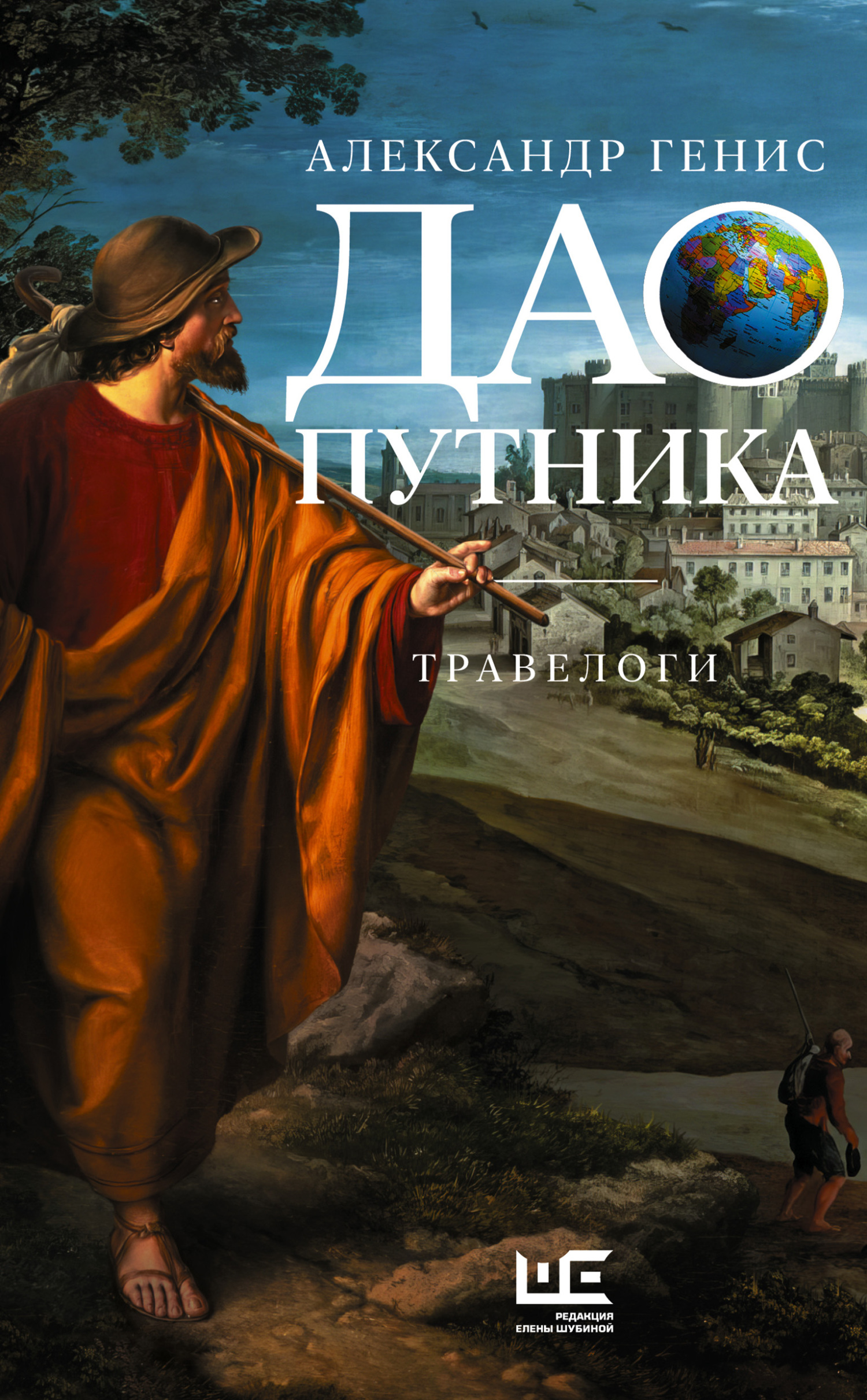названном, как все здесь, именем живописца, Альберта Кёйпа, – семь лет – рекорд, но моему – восемь.
Я попробовал темно-рыжую стружку, рассыпавшуюся во рту сливочными песчинками. Вкус был бездонным, но лакомиться им, как заклинал сыродел, следовало вечером, с белым вином и друзьями.
В остальное, а на самом деле в любое, время в Голландии едят селедку. Как в России пирожки, в Японии суши, а в Америке хот-доги, она не считается трапезой и продается всюду. Великое изобретение селедочного засола обогатило Амстердам и стало первым и последним триумфом голландской кухни. Сложившаяся под эгидой кальвинистской догмы, она оставляла роскошь фламандскому Югу, где у католиков, балующихся свежим бельгийским шоколадом, всегда есть шанс замолить грех и вновь, как я, приступить к конфетам. У кальвинистов, если я их правильно понял, ты изначально проклят, и никакие добрые дела не переубедят Бога. Помня о будущем, здесь даже в золотом XVII веке держались строго, ходили в черном, богатством не кичились. Что касается еды, то она лучше всего в натюрмортах малых голландцев.
“Малыми” голландцев зовут только в России, и правильно делают, ибо от больших их отличает пропасть, перейти которую мне удалось лишь в два приема.
Если малых голландцев можно любить просто так и с детства, то немалые требуют особого подхода, для меня – литературного. Родись они русскими писателями, то Рембрандт бы оказался Достоевским, Хальс – Толстым, а Вермеер – Чеховым.
Первый любил душераздирающие эффекты светотени, которые так раздражили Набокова в “Преступлении и наказании”. Второй освещал свои групповые портреты ровным светом эпоса – как в “Войне и мире”: четыре тысячи персонажей, и не перепутаешь. Живопись третьего – грустная, интимная, камерная, то есть комнатная, как бледная, но бесценная орхидея на подоконнике.
Говоря иначе: Бетховен, Верди и Шопен…
– Чушь, – перебил меня эксперт, – они все – голландцы, а значит, умеют создавать красоту в ограниченных верой условиях. Если протестантскую церковь нельзя заполнять фресками и иконами, то их место займут песни органа. Если роскошь отменить, то тщеславие найдет себе выход в филантропии. Если запретить цветные шелка, то найдутся сто оттенков черного. Не зря у Рембрандта была скупая палитра, и, чем лучше он писал, тем беднее она становилась. Даже в годы расцвета он не пользовался ультрамарином, столь дорогим, что готические художники держали его для Богоматери, а Вермеер транжирил на молочниц. Зато последний из экономии писал одну и ту же комнату, одно окно, одну вазу китайского фарфора и одну жемчужину, к тому же ненастоящую, которая совсем уж мало кому была по карману в его родном Делфте.
Я приехал туда на закате в особо тихом вагоне, предназначенном для читающих. Мне, однако, больше нравилось глазеть в окно. Первым вынырнул шпиль Старой церкви. Будь у меня Бог, я бы навещал Его в ней. Стройные стены, прозрачные стекла. Из украшений – макеты парусников, гулкое эхо и могила Вермеера, даже две. Одна, стершаяся – настоящая, другая, с вензелями – для туристов.
Выйдя на ладную площадь, куда на вечерние посиделки уже съезжалась на велосипедах долговязая молодежь, я отправился за город, чтобы найти то место, с которого Вермеер писал свой “Вид Делфта”. Сверяясь с репродукцией, я прошел три квартала, пересек подъемный мостик и оказался на крохотном пляже, который мы делили со старым рыбаком. Усевшись рядом с его собакой и удочкой, я стал рассматривать ворота крепостной стены, игрушечные башни, сбившиеся набекрень черепичные крыши и уток в нешироком канале.
– Неужели, – спросил я себя, – это та самая картина, на которую ты молился?
– Пожалуй, да, – ответил мне внутренний голос, и в наступившей темноте мы с ним отправились к вокзалу.
На прощание, подружившись со старожилом, я признался ему в любви к Амстердаму и сказал, что решил стать здешним почтальоном, ибо тогда у меня будет нужда и причина каждый день ходить вдоль каналов.
– Тебе придется, – нисколько не удивившись, ответил он, – выучить голландский, но это просто. Произношение – как у Брежнева, а из всех слов достаточно одного, но оно не переводится: “gezellig”.
– А что это значит?
– Я же говорю: не переводится. Представь себе все, что любишь, вычти величественное, прибавь камин и кошку, умножь на два и раздели поровну на число оставшихся тебе дней.
– Это и есть “гхезеллих”?
– Скорее – рай, но ты уже разобрался.
Вдетстве я видел трактор, вырезанный из янтаря. Казалось, что внутри абрикосовой мякоти заперт свет еще молодого солнца.
– Море, – начал Марис, – привело нас в историю. Оно выносит на берег янтарь. Балты им освещали хижины – янтарь горит медленно, как шерсть. Греки ценили его больше золота.
– Балтия, – не удержался я, – стоит на пути из варяг в греки.
– Собственно, мы и есть варяги, – согласился Марис, – курши тоже промышляли разбоем. Ставили ложные маяки, грабили корабли, брали выкуп. За матроса – мешок соли, а то море у нас пресное. Отрубленные у трупов ноги вкапывали в дюны. Когда мясо высыхало, ботфорты сами снимались. Со временем курши смешались с остальными – кроме ливов. Те до сих пор живут на берегу. После войны – без особой на то причины – в Сибирь выслали десять тысяч ливов. Сегодня их осталось десять человек. Недавно умер их последний король. Кстати, именно ливы научили нас коптить угрей.
– Молодцы! – обрадовался я.
– Конечно, – подхватил Марис, – только скуповаты. Немецкие рыцари уговорили ливов креститься, но, как только с новообращенных потребовали десятину, они бросились в Даугаву, чтобы смыть крещение. У нас это повторялось так часто, что мы, боюсь, остались язычниками.
– Могу понять, – одобрил я. Как маловеру мне всегда казалось разумным разменять одного непостижимого Бога на мириад понятных. Гребенщиков [1], например, придумал бога парковки и бога тусовки.
– А нам хватает языческого зверинца. Мы уважаем животных. Когда умирает хозяин, об этом надо деликатно сообщить его скоту (включая пчел – чтоб не разлетелись). Ведь душа, как ты, наверное, слышал, не умирает вместе с телом, а переселяется в бабочку, или мышь, или в змею, а то и в жабу. Но лучшие из нас после смерти становятся дубами. Латыши их считают своим тотемом. Листья у дуба держатся как прибитые. В грозу именно эти деревья принимают удар на себя, спасая урожай от пожара. За городом они – вместе с сельской церковью – первыми встречают путника.
Вглядевшись, я тоже полюбил дубы. В их барочной архитектуре соблазнительно легко заблудиться взглядом. Их любят даже аисты. Они вернулись, когда кончилась советская власть. Теперь их тут больше, чем тех же тракторов.
Собственно, сейчас вся страна – такая: просторная, пустынная, бездельная. Латвия выглядит новорожденной – она еще только учится быть государством. Неудивительно, что она наступает на мозоли, когда гуляет по буфету.
Впрочем, теперь так живут многие. По пути в общее будущее глобализация вернула истории вкус к средневековой раздробленности. Старые страны крошатся, выделяя из себя еще более старые области, которые возрождают собственную державность даже тогда, когда ее не было. Теперь повсюду модно быть отдельным. Безличный ход прогресса делает нас настолько похожими, что страны и народы ищут убежища, зарываясь в почву – поближе к корням.
В мире, где террор и экология, банк и интернет, молл и супермаркет, бестселлер и блокбастер упраздняют суверенитет, автономия становится поэтическим идеалом, культурологической конструкцией и историческим вымыслом.
– История, – подтвердил Марис, – наш Голливуд: фабрика иллюзий, державная индустрия, производящая ложную коллективную память, на которой строится государство. Оно, как учил Гегель, есть форма народной души.
– А что делать, – спросил я, – если души две?
– Не знаю, – честно ответил Марис, – я и одной-то не видел.
Я тоже, но что-то во мне резонирует каждый раз, когда я приезжаю в края, где вырос. Возможно – характер дождя, вероятно – рисунок лужи, наверняка – тяжелые облака.
Приезжая сюда, я чувствую себя, как будто уже умер. Мне встречаются все, кого я знал, любил и забыл. Одной из них была окликнувшая меня яркая дама, с которой я сидел за одной партой.