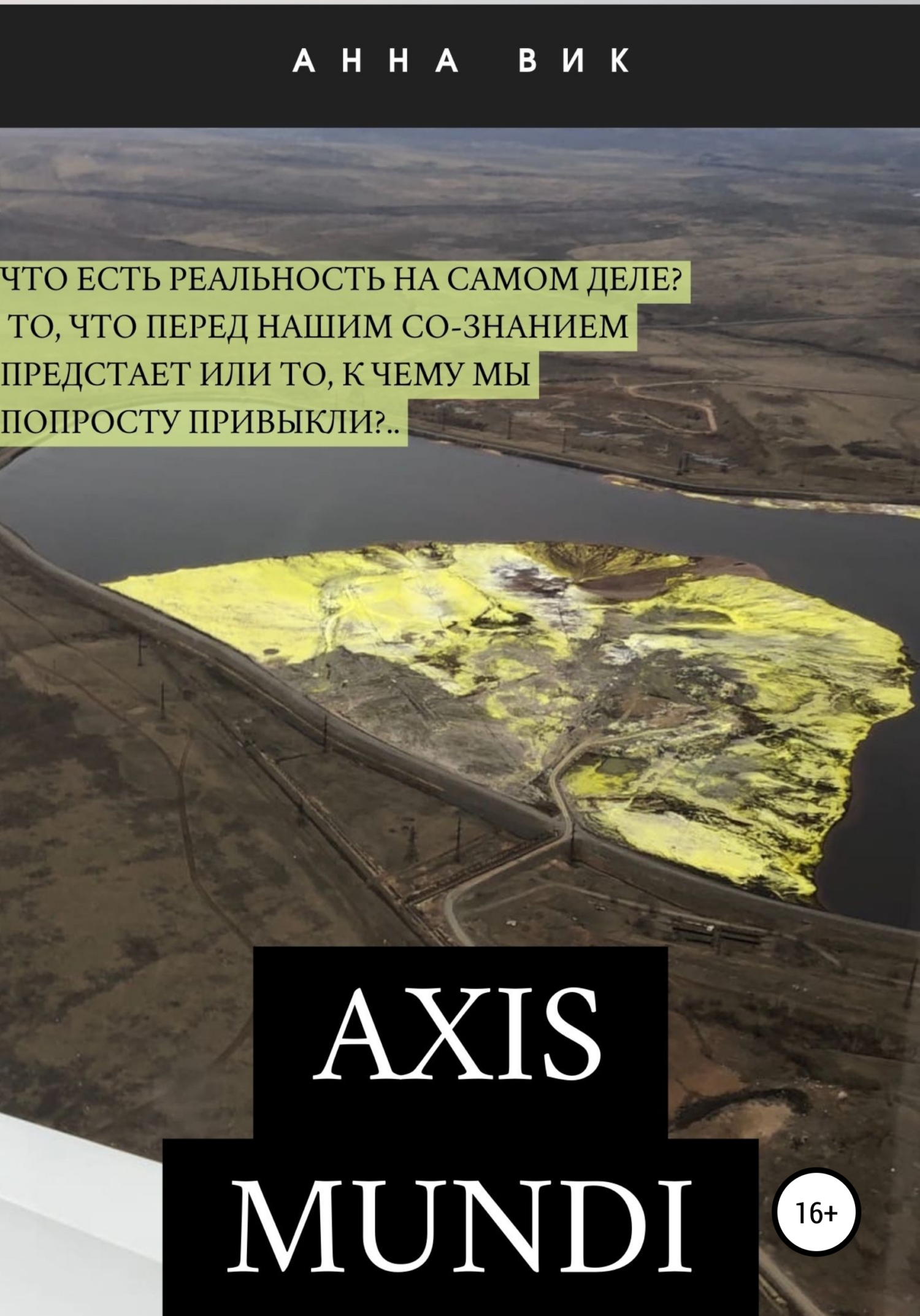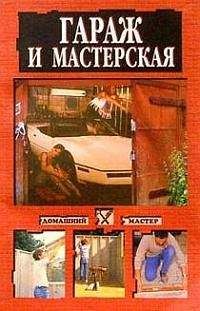на шкурке» [318]. «Натурального» цвета нередко добивались при помощи красок: «Перед началом препаровки птицы, следует записать цвет радужной оболочки глаз ее, чтобы впоследствии, при вставлении искусственных глаз, иметь возможность окрасить их в натуральный цвет» [319]. Наряду с цветом и размером большое значение имело положение стеклянного глаза и «направление взгляда» птицы: «Изменение выражения глаза целиком зависит от положения век. У птиц, у которых глаза смотрят вперед (например, совы, филины), необходимым условием должна быть единая ось для обоих глаз. Иное положение уродует “физиономию” птицы, портя ее выражение» [320].
Отчасти об успехе этих приемов, отчасти об уровне зрительского доверия свидетельствует тот факт, что за пределами таксидермических пособий глаза чучел крайне редко называются стеклянными. В модной периодике, напротив, они зачастую описываются как «собственные» глаза животного. Так, в ежемесячном «модном» приложении к журналу «Живописное обозрение» за ноябрь 1902 года можно прочитать восторженные похвалы меховым горжеткам из цельной шкуры зверя: «Но что положительно никогда не выйдет из моды – это те горжетки, которые у нас в России называются “боа-зверь” и которые сохраняют и хвосты, и головки зверьков, с их глазами, ушами и зубами» [321] (курсив мой – К. Г.). Живописные портреты рубежа веков, подтверждающие популярность этого модного аксессуара в еще большей степени, чем фотографии, размывают границы между живым и неживым: например, на портрете музы польского художника Войцеха Коссака Софии Гезиковой (1909) боа из черно-бурой лисы выразительно «смотрит» на зрителя своими стеклянными глазами.

Круглая шляпа. Модный магазин, № 13, 1866
Исключением, которое лишь подтверждает правило, можно назвать упоминание в другом номере того же приложения к «Живописному обозрению» дамских охотничьих шляп, которые «украшаются совиной головой с желтыми стеклянными глазами» [322]. Остраняющий взгляд на эту шляпную отделку, позволяющий различить ее неестественность (наряду с прямой отсылкой к материалу изготовления, «стеклянный» также может здесь прочитываться как «лишенный выражения», неживой), связан с предвзятым отношением корреспондента к новой моде, характеризуемой как эксцентричная и «не особенно красивая». Таким образом, глаза чучела могут быть «живыми» и «мертвыми», «искусственными» и «натуральными» в зависимости от того, кто и с какой целью на них смотрит. Упоминание стеклянного глаза попугая в повести Флобера раскрывает механику «театрального» эффекта, наделяя читателя рациональным, искушенным взглядом в противоположность наивному восторгу Фелисите. Описываемое таким образом чучело теряет свойство «естественности», превращаясь в машину по созданию визуальных эффектов, однако примечательно, что естественному здесь оказывается противопоставлено не только и не столько неестественное, сколько сверхъестественное: в декорациях театра природы разыгрывается спектакль чуда и божественного откровения [323].
Смежность религиозного, естественнонаучного и модного обнаруживается также в изначальном внешнем виде чучела Лулу, в отсутствие специфических эффектов освещения: «Наконец попугай прибыл, да еще в каком великолепном виде! Он сидел на ветке, прикрепленной к подставке из красного дерева, подняв одну лапку, склонив голову набок и кусая орех, который чучельник из любви к роскоши позолотил» [324]. Роскошь и «великолепие», акцентируемые в этом описании, являются неотъемлемой частью конструкции экзотического в европейском (имперском) культурном воображении. Однако в той же мере, как и к географическому ареалу обитания попугаев, этот ассамбляж отсылает к интерьеру богатого дома, в декоре которого преобладают красное дерево и позолота, а чучело попугая – к попугаю, скорее, как к еще одному украшению этого интерьера, чем к свободному жителю тропических лесов. Комната Фелисите, где чучело Лулу помещается «на выступе камина», во многом представляет собой противоположность модного интерьера: Флобер пишет о том, что она «напоминала и молельню, и базар», – однако характеризующие ее обстановку экзотика и чрезмерность парадоксальным образом перекликаются с модными стилями эпохи, в которой разворачивается действие, – поздним бидермейером и историзмом.
В то же время оформление чучела соответствует пышности католического ритуала, в котором Лулу предстоит принять участие в конце повести, когда умирающая Фелисите просит возложить попугая на один из престолов, воздвигаемых в честь праздника Тела Христова. Декор престола, состоящий из индивидуальных пожертвований, изобилен и эклектичен, с преобладанием редких, экзотических элементов: «Престол был увит гирляндами зелени, украшен английскими кружевами. Посредине стояла маленькая рака с мощами, по углам – два апельсинных деревца, а кругом – серебряные подсвечники и фарфоровые вазы, из которых тянулись подсолнечники, лилии, пионы, наперстянка, букеты гортензий. Эта покатая пестрая горка, достигавшая уровня второго этажа, спускалась на ковер, разостланный на мощеном дворе. Обращали на себя внимание редкие вещи: позолоченная сахарница с короной из фиалок, сверкавшие на мху подвески из алансонских камней, две китайские ширмы с пейзажами. Лулу был засыпан розами – виднелся лишь его голубой лобик, похожий на пластинку из ляпис-лазури» [325]. Чучело попугая, былое великолепие которого продолжает «видеть» верная Фелисите, органично вписывается в эту пеструю картину и растворяется в ней, пряча нанесенные временем увечья.
Подставку из красного дерева и позолоченный орех легко выделить как «внешние» по отношению к чучелу попугая декоративные элементы, однако хотелось бы подчеркнуть, что подобно рассматривавшимся выше стеклянным глазам все искусственные дополнения в таксидермических объектах XIX века являются частью определенной идеи естественности – которая, в свою очередь, предстает сложно организованной конструкцией. Так, орех служит «реквизитом», вокруг которого фактически выстраивается поза: раскрытый клюв, наклон головы, приподнятая лапка – экспрессивные приемы, способствующие «оживлению» чучела в соответствии с естественнонаучными знаниями и эстетическими конвенциями.
Имитируя «природный» объект, конечный результат работы таксидермиста ничем не выдает необходимых для его создания сложных операций, от замеров пропорций тела птицы или зверя до способов фиксации чучела и отдельных его элементов в заданном положении: «Придавая естественную позу, обращают особенное внимание на положение ног, крыльев и шеи. Чтобы к туловищу лучше прилегали крылья, их прикалывают булавками, чтобы перья при высыхании шкуры не взъерошивались, на время сушки чучело обматывают нитками, но как можно слабее, чтобы на перьях не оставить следа» [326]. Улучшить вид застывших в «неестественном» положении перьев было практически невозможно, поэтому «укладку перьев» [327] необходимо было производить до наложения предохранительных бандажей из ниток или полосок бумаги. В отличие от этого мех животных подлежал «парикмахерской» обработке уже на заключительных этапах изготовления чучела: «Затем чучело совершенно приводится в порядок, и при помощи гребенки и щетки шерсть расчесывают и дают ей правильное направление» [328]. Продолжая театральную аналогию, можно говорить также о необходимом таксидермисту искусстве «гримера», так как не только глаза, но и многие другие части тела зверя и особенно птицы нуждались в замене, дополнении, «исправлении» и раскрашивании: «Ноги, восковица, окружность глаз и мясистые наросты на голове при высыхании теряют свой цвет,