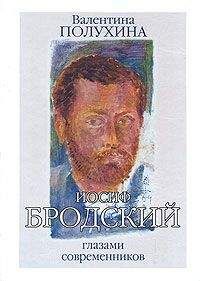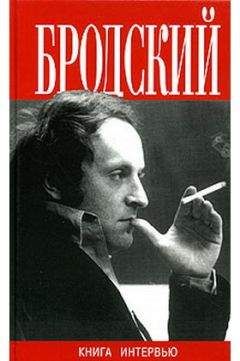Не могли бы вы их назвать?
Это прежде всего анжамбеман. Это ощущение непрерывности текста. Поскольку бытие дискретно, бытие прерывно, бытие бессмысленно, постольку текст небессмыслен, текст — это порядок для Бродского. Порядок, который преодолевает хаос жизни с его Броуновским движением ситуаций, то есть этот прием у Бродского имеет метафизическое обоснование.
Этот прием также открывает новые возможности для рифм.
Да, а главное, происходит новый речевой сдвиг. Это наиболее мощное орудие его воздействия. В мое время еще был голос. Голос исчез где-то в конце 60-х годов. Во втором периоде стихи стали более графичными. Не случайно Бродский в конце 60-годов прибегает к сложной графике. Еще в "Шествии" [С:156-222/I:95-149] он делает какие-то попытки графических экспериментов, а потом наступает как бы замена голоса графикой[281].
Вы хотите сказать, что стихи пишутся, а не сочиняются по слуху и голосу?
Да, стихи уже пишутся, а не слышатся. Отсюда то обвинение, которое наиболее часто приходится слышать от людей, читающих и принимающих Бродского в Союзе, обвинение в холодности. От Бродского ждали, что он будет пророком именно в силу какого-то особого голосоведения? когда он начинал, в силу его физиологических даже особенностей, его неспособности выговаривать целый ряд звуков. Поэтому голос для него становился ценностью. Это удивительная вещь. Голос для Бродского, звучание, кричание — это некая суггестивная сила, аналогичная тому, что было, допустим, при начале рок-движения. Здесь еще одна опасность для тех поэтов, которые исходят из поэтики Бродского. Дело в том, что в последние годы степень иронии в его поэзии повысилась. И страх открытости, может быть, нежелание открытости, чисто западное уже, которое усугубляется постепенно тем, что всякое высказывание поэтическое уже изначально существует как объект анализа в момент создания, и из этого анализа исходит следующее высказывание. Так вот, такая ирония по отношению к слову, по отношению к себе тоже может быть убийственной. Я могу назвать целый ряд поэтов, ну, скажем, Александр Бараш, который развивает ироническую линию Бродского. Стихи его, конечно, по качеству и по звучанию находятся как бы в другом измерении, чем поэзия Бродского, но именно ирония лишает их самостоятельности, тогда как ирония у Бродского просто сохраняет цельность мира. Ирония есть орудие против вторжения чуждых поэтик, чуждых идеологем, ситуаций. Это может быть и самоирония, которая завышает, а не занижает поэтическое "я". Например, в "Новом Жюль Берне" [У:40-46/II:387-93] осьминога зовут Ося. Это явная самоирония. Ося — это не просто какое-то существо непонятное, Ося — гигантское существо, это что-то пожирающее, это "я", которое разрослось до фантастического новообразования. Вот самоирония, которая одновременно провоцирует само-возвеличение.
Но, с другой стороны, большинство тропов Бродского, замещающих лирическое "я , у него нарочито самоуничижительны: "я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов / второсортной державы" [К:58/II:161], "совершенный никто, человек в плаще" [Ч:40/II:318], "Пусть ты последняя рванина, / пыль под забором" [У:92/II:24] и т.д.
Я могу противопоставить этому ряду другой ряд. Пожалуйста, зуб, который сравнивается с Колизеем.
Я не знаю у Бродского такого сравнения, хотя я составляю словарь его тропов и сравнений[282]. Может быть, вы имеете в виду следующие сравнения: "В полости рта не уступит кариес / Греции Древней, по меньшей мере" [Ч:24/II:290] — или: "...Зуб Мудрости, я, прячущий во рту / развалины почище Парфенона" [Ч:28/II:299]?
Хорошо, возьмем один из процитированных вами тропов: "человек в плаще". Фактически это киноцитата, которая указывает на фигуру антигероя. Это цитата из фильмов 40-х годов, может быть, даже Марселя Карне. Я зрительно узнаю этот образ по фильмам, которые мы смотрели: "Набережная туманов" (это Париж) или "Белые ночи" (Венеция). "Человек в плаще" — это одинокий волк, Жан Маре, герой-отщепенец или супер-герой, который противостоит окружающему миру. Да и "пыль под забором" — это тоже цитата:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда[283].
У Бродского "пыль" — не что иное, как доведение до предела ахматовской метафоры. И это еще один момент, может быть, тоже значимый. Это различная функция цитирования. Цитата у Бродского —- всегда предлог для того, чтобы сказать о себе чужими словами. Для меня же важно растворение собственного "я" в чужой речи. Чужая речь становится мне в какой-то момент важнее, интереснее собственной, и я повторяю чужие слова. В этом смысле для меня духовными учителями являются поэты средневековья, поэты мистического, мистико-эротического плана, провансальские поэты.
Раз уж речь зашла о лирическом "я", позвольте мне процитировать Бродского. В своем послесловии к сборнику стихов Кублановского Бродский пишет, что лирическому герою Кублановского не хватает "того отвращения к себе, без которого он не слишком убедителен"[284]?.
Он абсолютно прав.
Значит ли это, что своеобразие автопортрета самого Бродского детерминировано желанием быть убедительным?
И не только этим, но и более глубоким метафизическим смыслом. Бродский все-таки осознает себя поэтом христианской культуры. А в христианстве самоуничижение есть некая форма самовозвеличивания.
В каких сферах по преимуществу вы пролагаете свой путь к пониманию мира?
Для меня важен, конечно, религиозный поиск. Я не сказал бы — опыт, трудно говорить о религиозном опыте в связи с поэзией. Там как раз и проходит очень опасная граница. Существование на границе бытия и небытия, "я" и не-"я", это есть и у Бродского, но чего, на мой взгляд, нет у него — стремления к анонимности, растворения "я" в "другом". А меня интересует именно эта анонимность. Так складывалась моя поэтика в отталкивании, в альтернативе по отношению к системе Бродского. То же пытался делать и Леня Аронзон[285]. Условно говоря, это поэтика максимальной концентрации смыслов, поэтика минимализма, но минимализма не отрицательного, не отчужденного от личности, как у Айги. Я отчетливо представляю себе, что поэтическая современная русская вселенная имеет два предела. С одной стороны, гомогенный, непрерывный космос (порядок) Бродского, а с другой — абсолютно анонимный, дискретный, "белый на белом" мир Геннадия Айги. Ни то, ни другое меня как поэта не устраивает. Мне кажется, что главным в поэзии все-таки остается степень концентрации смысла. И это условие выживания поэзии. И именно выживаемость поэтического слова сейчас зависит от того, насколько оно неспособно вписаться в культурный истэблишмент, то есть, насколько оно не подвержено размыванию в средствах массовой информации, масс-медиума, а с другой стороны, насколько прочно оно опирается на всемирную поэтическую традицию.
Для меня очевидно, что Нобелевская премия Бродского — это сильный удар по его поэтике. Мне бы не хотелось вписаться в похожую ситуацию. Я сейчас сознательно отказываюсь от публикаций, потому что любое слово, которое в эти дни, годы начинает тиражироваться, подвергается смертельной опасности как вместилище смыслов, происходит какой-то процесс замещения самого смысла на знак, эмблему смысла. Мне бы хотелось существовать в контексте такой поэтики, которая бы "мерцала" на грани абсолютного непонимания и в то же время постоянной, мучительной наполненности смыслом, который невозможно извратить, переведя на язык массовой информации. Иными словами, поэтики невозможного, непереводимого в разряд художественных ценностей, которые обозначаются как ценности на сегодняшний момент. Это задача довольно сложная, потому что оказывается, что массовая культура практически почти всеядна. Телекамера сотрет любой, самый интимный и сложный смысл и превратит его в бессмыслицу, переварит. Чтобы противостоять этому культурологическому пищеварительному процессу, современное поэтическое слово должно как бы "инкапсулироваться" — исчезнуть для внешнего взгляда и открываться только через медитативный труд внимательного вчитывания. Здесь мне представляется очень важной посмертная судьба стихов Мандельштама. При всей, казалось бы, загробной предрасположенности к благорастворению в современном массовом сознании —- поэт, жертва сталинских репрессий, акмеист, — его поэзия аристократична (а аристократизм сейчас — это хороший тон в советском обществе, это main stream в новой советской идеологии, и не случайно Набоков — один из самых влиятельных авторов, и Бродский воспринимается именно под знаком аристократизма, потому что вписан в истэблишмент), при всем этом Осип Мандельштам остается поэтом, прописанным за пределами масс-культуры, неуловимым и неуловленным. Обидно, что у Бродского есть элементы, которые легко усваиваются массовой культурой. Когда, скажем, во вчерашнем фильме его стихи иллюстрируются поездом, идущим по мосту, они как бы переводятся на другой язык, на язык кино. Меня это настораживает, потому что они слишком легко переводятся на другой язык.