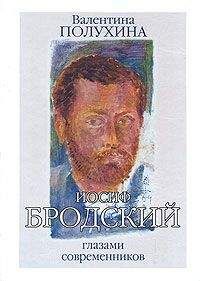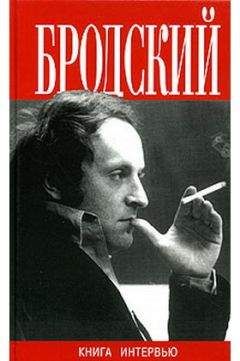Не позаимствована ли эта метафора из "Горбунова и Горчакова"? Помните "Песню в третьем лице"?
"Сказал". "Сказал". "Сказал". "Сказал". "Сказал".
"Суть поезда". "Все дальше, дальше рельсы".
"И вот уже сказал почти вокзал".
"Никто из них не хочет лечь на рельсы".
[0:189/II:113]
Я хотела бы задать вам вопрос как филологу: Что порождает энергию стихотворения? Только ли тропы, ритм и синтаксис или какие-то духовные и семантические качества?
Это сложный вопрос. Попробую ответить. Для меня существен момент невидимой суггестии, которая внешне не проявляется. Стих возникает из суммы тоски и отрицания. Эта тоска может быть разных оттенков, это может быть радостная тоска, это может быть черная тоска, но это всегда тоска и отрицание того состояния, в котором я нахожусь сейчас, пре-бываю в каком-то бытовом, физическом смысле.
Отрицание или преодоление?
Может быть, и преодоление, но, если уж говорить точно, скорее отталкивание. Возникает некая мелодическая структура, не заполненная словами. Это даже не ритмика, а это просто мычание, мелодика, то, что иногда довольно сложно оформить метрически. Для меня сложно. И основным элементом этого ритма становится для меня дыхательный момент. Строфа складывается как некая дыхательная фигура. Как правило, я пишу строфами, хотя сейчас немножко иначе. Я отказался от знаков препинания для большей свободы прочтения. Итак, скажем, возникает, условно говоря, некое особое дыхание. Я начинаю писать с того момента, когда я знаю, что точно такого дыхания у меня не было, не было такой дыхательной фигуры. Затем появляются инструментированные отрывки слов, то есть какие-то группы согласных, гласных, еще не имеющих смысла. Слово развивается как бы само по себе, вегетативно, что ли. При этом я замечаю, что, чем больше свободы в инструментальном движении, тем жестче идет развитие смысла. Смысл обнаруживается только уже к концу работы над стихотворением. Иными словами, само движение смысла оказывается результатом музыкально-дыхательного движения. И я с удивлением обнаруживаю, что я написал нечто осмысленное. Это всегда очень интересно, потому что в принципе, если нет неожиданного замыкания всех элементов, бессмысленных, мычащих, если они не складываются в единый, нерас- членяемый кристалл смысла, в некое геометрико-семантическое целое, то стихотворение не получается, и я его оставляю, отбрасываю.
Значит ли это, что вас ведет не язык, а какая-то другая, не лингвистическая гармония?
Язык тоже, но язык в каком смысле?. Главным приемом, которым я пользуюсь, является не метафора, а полисема. Это вообще довольно редкий род поэзии, можно говорить, наверное, о поэзии а-метафорической. Метафора возникает за счет внутреннего столкновения различных уровней и значений одного слова с другим. Полисема — это учитывание значений одного слова во всем спектре его семантического поля. Если слово это "я", то метафора строится как отношение "я" — "ты", а полисемия как отношение "я" — "Я". Этим типом коммуникации никто, как мне кажется, не занимался.
Ну, а Хлебников?
Да, Хлебников. У него все-таки другое. Скорее омонимия, прием ложной этимологии, игра псевдоомофонами, когда поэтическое обнаружение смысла строится на аналитическом расчленении слова, фразы и т.д. Но такой язык фрагментарен, разорван при видимой непрерывности. Это язык языческого культа, где степень символической свободы выше, чем, скажем, в христианстве, но где нет реального освобождения слова, как это происходит, когда оно, как бы осознавая свою греховную природу, оказывается в жестких условиях вертикальной игры внутри полисемы. Это, собственно говоря, лабораторные условия, в которых слову "трудно" — невнятный синтаксис, архаическая лексика, доведение до абсурда. Но смысл слова раскрывается именно в этих жестких, необычных условиях, а не в речевых условиях обыденного бытования слова. А дальше слово распадается так же, как у Хлебникова, распадаются, соединяются, меняются местами согласные, то есть инструментовка, о которой я говорил, строится за счет движения этих элементов. И это движение идет уже само по себе, независимо от меня.
То есть вы ставите слово, как Бродский человека, в какие-то экстремальные экзистенциальные ситуации?
Да, абсолютно так: в экстремальные экзистенциальные ситуации. И слово переживает трагедию, умирает. Поэтому я могу допустить то, чего не может допустить Бродский, плохие строчки, плохие стихи. Для меня это не важно, потому что они поглощаются контекстом воскресающего и воскрешающего слова. Наоборот даже, иногда я сознательно иду на это, допускаю высказывания на грани банала, на грани пошлости именно потому, что сейчас это наиболее острый и сильный прием.
Этим пользуется и Бродский, хотя здесь я вижу у вас и схождения и расхождения. В то время, как вы делаете ударение на слове, Бродский печется обо всем языке, ибо для него, цитирую, "язык важнее, чем Бог, чем природа, важнее, чем что-либо ни было для нас как биологического вида"[286]. В какой мере вы разделяете подобную точку зрения на язык?
Да, концепция языка Бродского где-то близка мне. Это еще одна причина, почему я занимаюсь его поэзией. Но для меня язык — это все-таки то, чем описывают молчание. Для меня центром является то, о чем я умалчиваю, о чем я не говорю.
Очень знаменательная перекличка с Олей Седаковой.
У нас, как это ни странно, есть определенные сближения. Смысловые. И мне стихи Седаковой нравятся, несмотря на их слишком кокетливую артикуляцию и жесткую музыкально-рациональную основу. Она человек музыкально образованный и исходит из концептуально опробованных в музыкальном искусстве приемов. В принципе, наверное, отличие поэтов моего поколения от поэтов предшествующего поколения (Бродский находится на границе) это то, что мы писали о том, о чем писать нельзя. Причем писать нельзя не в политическом, не в этическом смысле, а нельзя писать, потому что об этом писать невозможно. Может быть, это были попытки некой словесной иконописи... Есть такой термин в православии — рай словесный. Что такое рай словесный? Это райское существование человека уже после смерти. И отличие вообще всей "тайной" культуры, которая начала развиваться и сложилась в 70-е годы (это касается и живописи: художники тоже пытались изображать то, что в принципе нельзя изобразить), сам факт возникновения этой культуры, ее устремления, еще, я думаю, проявятся, и именно здесь будут созданы новые ценности, которые будут неразмываемы мутным потоком масс-медиа. А язык все-таки размываемая ценность. Язык — существо эволюционирующее и историческое. Но при всей преходящести языка поиск "вечных" ценностей за счет слова, за счет выявления его ресурсов и возможностей, попытки обнаружить предел смысла, до которого мы доходим, — вот это для меня является самым главным.
В какой мере ваша поэтика, ваша эстетика выводят вас на философский уровень? И к каким ведущим философским направлениям вы себя присоединяете?
Когда-то меня буквально перевернуло знакомство с Бердяевым, не в человеческом смысле, а в поэтическом. В 1970 году я прочел его книжку "Смысл истории", и мне стало ясно, как писать, хотя, казалось бы, там об этом вообще не было речи. Я не знаю, как бы сейчас относился к Бердяеву, я давно его не перечитывал. Мне продолжает быть близкой экзистенциальная философия, ее правое явление — Хайдеггер. То, что пишет Хайдеггер о поэзии, просто приводит меня в восхищение. Именно поэтому я хочу писать о стихах. В меньшей степени меня привлекает психоаналитическое направление, хотя я его учитываю, например, Лакановский ключ психоанализа слова. Экзистенциально-феноменологический подход для меня ключевой в поэзии.
Как вы думаете, чьими философскими идеями питается поэзия Бродского?
Для Бродского, думаю, важен Шестов и Киркегор. Думая о Бродском, я вспоминаю работу Киркегора об Аврааме.
"Страх и трепет".
Да. Это основа движения, основа его пути. Любопытно, что для Бродского, как и вообще для большинства русских поэтов, психоанализа как будто не существует. А между тем, мне кажется, что какие-то возможности обнаружения надежды — социально-метафизической, экзистенциальной надежды для нас действительно лежат в сфере самопознания именно с этой точки зрения, потому что в России психоанализ приобретает религиозную окраску и дает совершенно новое измерение личности. И язык обретает совершенно новые обертоны. Я с этой точки зрения перечитывал недавно стихи Бродского, написанные после 1972 года. И меня поразило возникновение новых мотивов, свидетельствующих о том, что Бродский сразу же почувствовал эту психоаналитическую заостренность бытия европейского человека. Он попытался, скажем, в "Одиссей Телемаку" [Ч:23/II:301] традиционные мифы прочесть в контексте фрейдовского ключа. Надо сказать, что это не удалось, и он ушел от этого.