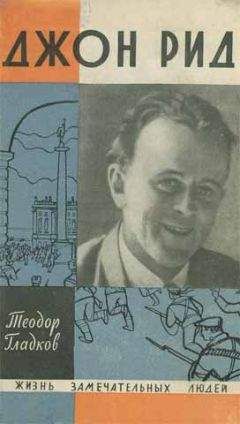«Ни один сколько-нибудь интеллигентный человек не считает войну популярной», — заговорил один из парней.
Как-то вечером мы, несколько человек, обедали вместе. Тут были Джо, Джордж Ньютон, несколько ребят из Военного департамента и крупные заправилы-дельцы из подкомитетов Совета национальной обороны.
Мы хотели придумать сенсацию, или, как выражаются коммивояжеры, «подать войну». Три битых часа сидели мы, ломая себе голову, но не смогли придумать ни единого достаточно серьезного аргумента, который мог бы возбудить патриотизм рядового гражданина, не будучи вместе с тем откровенной ложью. Конечно, у нас были достаточно веские аргументы для себя, но для любой рекламной компании они были чересчур… скажем мягко, «возвышенны».
Тут заговорил энергичный полковник авиации, который сидел, откинувшись назад и пуская к потолку дым из дорогой сигары.
«Знаете, что нам нужно? Только одно — то самое, что помогло в Англии. Потери. Сначала невозможно было заинтересовать массы англичан войной; им нельзя было внушить, что война — это их кровное дело. Но когда начали приходить списки убитых, раненых и искалеченных — кстати, тут Англия должна благодарить немецкие зверства, — тогда ненависть к немцам начала просачиваться из семей убитых и раненых в толщу народа. Ведь патриотизм — это общественный гнев, приспособленный для военных целей.
Если бы я задался целью сделать эту войну популярной, я начал бы с отправки трех или четырех тысяч американских солдат на верную смерть. Это привело бы в возбуждение всю страну».
Когда бы этот молодой человек мог пробудить Америку, попросту пожертвовав собой, я думаю, что он не поколебался бы сыграть роль Курция[36]. Он сделал бы это, несмотря на то, что по своей натуре был человеком, чуждым романтических иллюзий, и что в данном случае он лишь играл бы на сентиментальности публики ради сознательного достижения своей цели. Но он прекрасно знал, что не может совершить ничего такого, что могло бы хоть в самой легкой степени воодушевить американский народ, даже если бы это действие само по себе не было чуждо его темпераменту. Единственное, что может задеть людей за живое, — это боль, горе, чувство безвозвратной утраты. А потому давайте перебьем несколько тысяч парней для нашего общего блага.
Жизнь дешево ценится теперь, и если, уничтожив несколько тысяч молодых людей — меньше, чем погибает за день на фронтах мировой войны, — можно будет сделать решительный шаг к освобождению человечества, я знаю, где найдутся люди, способные сделать это. Но когда тебя принуждают или соблазняют дешевыми эффектами поддерживать политические теории, которые слишком сложны или изысканны, чтобы воспламенить массу народа, то это, по-моему, смахивает на те старые, недемократические махинации, которые явились причиной пожара в Европе.
Года полтора я провел в различных странах и на разных фронтах, побывал во всех столицах воюющих стран, наблюдал военные действия на пяти фронтах. Один из моих лучших друзей обвинял меня в том, что я не понимаю значения войны, что на меня не производят впечатления потрясающие контрасты этого всемирного катаклизма. Он говорил, что я перешагиваю через все это, руководствуясь своей предвзятой идеей социалиста, согласно которой правящие капиталистические классы цинично и злонамеренно втянули свои народы в войну, и что за всем этим я отказываюсь видеть что-либо другое.
Согласен, я действительно поехал за границу с определенной идеей, и моя идея была в основном именно такова. У каждого человека была в начале войны по крайней мере одна теория. Но вскоре я разочаровался. Я обнаружил, что многие люди отнюдь не настолько умны, чтобы этот обман вызывался необходимостью. Это относилось даже к социалистам и противникам милитаризма, которые расставались со своими убеждениями, как со старой кожей, едва лишь на улицах раздавался барабанный бой и проносили флаги.
Боюсь, что я никогда по-настоящему не понимал драматизма и красоты этой войны. В первые недели, проезжая через Францию, я думал, что никогда не смогу забыть эти украшенные цветами воинские поезда, переполненные смеющимися и поющими ребятами призыва 1914 года, которые так весело и беззаботно уезжали на фронт. И после этого я увидел Париж, но не героический, суровый и непреклонный, каким описывали его все репортеры, а обезумевший от страха, охваченный поголовной паникой город, жители которого в своем неистовом стремлении попасть на поезда, отходящие на юг, затаптывали женщин и детей.
Я видел множество безобразных вещей: мелкие торговцы наживались на снаряжении, в котором нуждались солдаты; богачи отдавали свои красивые особняки под покровительство Красного Креста, а потом, когда немцы отступили к реке Эна, отбирали их обратно. Военно-медицинское управление вело закулисную борьбу с Красным Крестом, в результате которой в городе пустовали тысячи больничных коек, а раненые умирали под дождем прямо па булыжниках Витри.
Что противостояло этому? Нация, вставшая как один человек, чтобы отразить нашествие, но в большинстве своем состоявшая из людей не слишком воинственных и потому чувствовавших себя, как мне казалось, в очень глупом положении и совершенно бесполезными. Флаги, безлюдие, шпиономания, женщины с безумными глазами и немецкие аэропланы, методически сбрасывающие бомбы на улицы. Шок и последовавшее за ним медленное, но неизбежное расстройство повседневной жизни, постоянно растущее напряжение. А позднее однорукие и одноногие калеки, люди, лишившиеся рассудка под орудийным огнем, и очереди из жалких оборванцев, выстроившиеся в переулках перед общественными столовыми.
Битва на Марне могла бы быть поводом к бурному ликованию, но к этому времени в Париже не осталось никого, кто мог бы торжествовать победу. Убранный тысячами флагов город вяло улыбался под ярким солнцем. Его улицы были все так же пустынны, а ночи — по-прежнему темны. Не было ни сенсационных новостей, ни героизма, ни звона колоколов, ни народного ликования. Все это становится немыслимым в те дни, когда мужская половина нации гниет в окопах. Не может быть такой вещи, как героизм, там, где миллионы людей идут на страшную смерть с тем настроением, какое было у европейских армий на протяжении этих трех лет. Миллионы героев! Этого одного было достаточно, чтобы полностью обесценить воинскую доблесть.
Почему я видел окружающее в таком свете? Ведь я пытался воспринять живописную, драматичную, гуманную сторону войны. Но все казалось мне бесцветным, все эти миллионы людей представлялись винтиками бездушной и скучной машины. То же самое произошло и на передовой. На протяжении значительного отрезка времени я был свидетелем битвы на Марне. Вместе с французами я находился на позициях севернее Амьена, когда началась окопная война. Почти всегда это было одно и то же механическое действие. Сначала нам было интересно знакомиться с новыми способами ведения войны. Но чувство новизны скоро стиралось, так же как стиралось оно и у солдат в окопах.
Во время битвы на Марне я провел один вечер с несколькими британскими солдатами-обозниками в маленькой деревушке Креси. С севера доносился грохот тяжелых орудий, раскалывавший темноту. Зачем пошли воевать эти томми? Они и сами толком не знали. Один сделал это потому, что пошел Билл, другой — потому, что хотел на время уйти из дому, третий — оттого, что хорошо платят. Вот и все.
Позже, примерно 1 октября 1914 года, мне пришлось заночевать в Кале. Чувствуя себя совершенно одиноким, я отправился в конце концов в единственный в городе клуб, где можно было найти вино, песни и девушек. Заведение это было переполнено солдатами и матросами, часть которых приехала в отпуск с фронта. Я разговорился с одним «пуалю»[37], который заявил мне с нескрываемой гордостью, что он социалист и к тому же интернационалист. Он был приставлен охранять немецких военнопленных и с энтузиазмом рассказывал мне, какие они замечательные ребята, и все тоже социалисты.
«Но, послушайте, — спросил я, — если вы член Интернационала, почему вы воюете?»
«Потому, что на Францию напали», — сказал он, смотря на меня без тени смущения.
«Но немцы уверяют, что это вы напали на Германию».
«Да, — ответил он пресерьезно, — я знаю, что они так говорят. Военнопленные рассказывали мне об этом. Наверное, так оно и есть. Возможно, что обе стороны подверглись нападению…»
Лондон был оклеен огромными афишами с призывами: «Вы нужны королю и родине! Записывайтесь добровольцами на время войны!» На всех площадях проходили военное обучение группы молодых людей. Это были представители средних и зажиточных слоев: банковские служащие, биржевые маклеры, преподаватели университета и народных школ, — потому что в этот период рабочие и Ист-Энд не были заинтересованы в воине. Первый экспедиционный корпус был сметен с лица земли на пути из Монса. Англия на предельной скорости теряла голову. Началось образование «воинства Китченера».