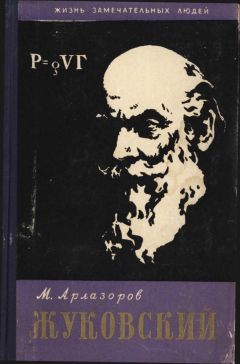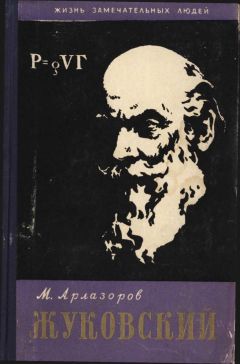Впрочем, и цивилизованный политик Поль Гранье де Кассиньяк отказывал женевскому Красному Кресту в субсидиях на том основании, что он-де будет заботиться не только о французских, но и о немецких жертвах войны. Невольно вспоминается заявление генерала графа Дюма во времена наполеоновской оккупации Дрездена. Когда город осадили союзные русско-прусские войска, Дюма объявил: «Скорее все жители города обратятся в трупы, нежели один-единственный французский солдат умрет с голоду». До этого, правда, не дошло — Дрезден быстро занял незабвенный Денис Давыдов.
Приведу вновь свидетельство Тургенева, неплохо разбиравшегося и в политике, и в словесном выражении человеческих мыслей и устремлений: «Нельзя не сознаться, что прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря; то же можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов: здесь — трезвая и честная правда; там — какая-то то яростная, то плаксивая фальшь. Этого, во всяком случае, история не забудет».
Впоследствии, увы, всё сложилось так, что последний прогноз Ивана Сергеевича не оправдался. Только потому, что Германия — Пруссия, выиграв франко-прусскую войну, не отказалась воспользоваться плодами победы, советская «История дипломатии», например, оценила линию Пруссии как «захватническую» и «несправедливую».
А вот В.И. Ленин, к слову, был в своей исторической оценке спокоен: «Во франко-прусской войне Германия ограбила Францию, но это не меняет основного исторического значения этой войны, освободившей десятки миллионов немецкого народа от феодального раздробления и угнетения двумя деспотами, русским царем и Наполеоном III».
Не стоит подозревать Ленина в неком германофильстве. В августе 1915 года, уже в разгар Первой мировой войны, он писал: «Не дело социалистов помогать более молодому и сильному разбойнику (Германии) грабить более старых и обожравшихся разбойников (то есть — Англию и Францию. — С.К.)».
Ленин был прав и во второй своей оценке, и в первой. Накануне франко-прусской войны вопрос об объединении Германии встал особенно остро. В 1867 году был создан Северо-Германский союз, по конституции которого прусский король (Вильгельм Первый) возглавлял все германские государства к северу от реки Майн в качестве президента союза, его верховного военного главы и руководителя его дипломатии. Южные немецкие государства— Бавария, Гессен, Вюртемберг — заключили с Северогерманским союзом соглашения. И для Бисмарка, и для массы немцев такое положение было лишь прологом к единой Германской империи.
«Неужели можно одну секунду сомневаться в том, что какой-то народ на месте немцев, в теперешнем их положении, поступил бы иначе»? — совершенно справедливо заключал и Тургенев.
Германия включила в свои пределы Эльзас и Лотарингию не только по праву победителя, но и потому, что французский, например, город Страсбур был основан как немецкий Страсбург и присоединен к Франции лишь в 1681 году — через тысячу лет после основания! Имена создателей знаменитого Страсбургского собора — Эрвина из Штейнбаха, Ульриха из Энсингена, Иоганна Гюльца из Кельна — говорят сами за себя. А так называемая Страсбургская присяга, данная 14 февраля 842 года близ Страсбурга, оказалась одновременно памятником и старофранцузского, и древненемецкого языка, потому что тогда два младших внука Карла Великого клялись совместно действовать против их старшего брата Лотаря. Людовик Немецкий (будущий король Германии) клялся на немецком, а Карл Лысый (будущий король Франции) — на французском языке. Так что на эти земли права были, в общем-то, и у немцев, и у французов, спорные и равные.
Крах Второй Французской империи отдал первенство немцам.
После Седанской катастрофы Версаль стал штаб-квартирой прусского короля Вильгельма, В Зеркальном зале Версальского дворца 18 января 1871 года и была провозглашена Германская империя. Вильгельм оказался первым германским императором — кайзером. Прошло почти полвека, и положение двух стран поменялось противоположно: в Первой мировой войне потерпела поражение Германия. Великодушие не относится к добродетелям властителей европейских народов. Из поколения в поколение они жадны, жестоки и мстительны. Лишний раз это подтвердил премьер Французской республики Жорж Бенжамен Клемансо. Именно стены Зеркального зала избрал он в свидетели унижения теперь уже Германии — в отместку за Седан. Так в Версале был подписан последний в его «дипломатической» истории важный международный акт — Версальский мирный договор 1919 года. Это произошло после заключения предварительных условий мира во французском штабном вагоне в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. Пройдут еще двадцать лет, и опять капитулирует Франция. Гитлер прикажет притащить Компьенский вагон, чтобы подписать капитуляцию обязательно в нем. Но не забудем — тут он всего лишь следовал примеру Клемансо.
Государства выигрывали и проигрывали, народы исправно платили дань золотом и жизнями. Такое распределение обязанностей не было чем-то новым, но после франко-прусской войны масштабы и характер политики «железа и крови» становились совсем другими. Именно с этой поры началась новая история мира, потому что в мир пришел новый мощный фактор его преобразования — объединенная имперская Германия.
Примерно в те же годы окончательно сложился и еще один серьезнейший фактор — финансовый, банковский капитал, активно сращенный с торговой и промышленной жизнью капиталистического мира и управляющий им.
Академик Е.В. Тарле в конце 1920-х годов в книге «Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг.» писал: «Намечалась грандиозная внешняя борьба, столкновение самых гигантских сил, какие только видело человечество. Могущественно организованный финансовый капитал и в Англии, и во Франции, и в Германии, двигая, как марионетками, дипломатией, всюду пел систематически провокационную политику. Могущественные экономические силы более отсталых стран, вроде России и Италии, действовали в том же духе»…
Но… Но Евгений Викторович так и не пришел к генеральной, основополагающей мысли о том, что «столкновение самых гигантских сил» намечалось прежде всего государством, находившимся за океаном, что фактическую режиссуру в театре политических марионеток Золотого капитала играл Дядя Сэм.
Увы, не поняв этого, Тарле ошибся и во многом другом, увидев смертельного врага России в Германии, хотя именно она могла стать для России наиболее подходящим партнером по внешнем мире.
Ведь объединение Германии произошло не благодаря «железу и крови», по словам Бисмарка. Германию объединило стремление десятков миллионов немцев, осознавших, что их подлинная Родина — не Баден, Вюртемберг, Гессен или Дарм-штадт, а Германия, разобщенная на протяжении веков и поэтому на протяжении веков ослабленная. Теперь она объединялась, и в новой Европе очень многое зависело от того, как сложится судьба германо-российских связей. Именно их.
Наступали новые времена, и период от версальского триумфа Вильгельма до версальского триумфа Клемансо (только вот — Клемансо ли?) задал тон событиям на весь двадцатый пек. Поэтому нам просто необходимо, читатель, хотя бы «галопом проскочить по Европа» тех лет, чтобы разобраться в собственном времени.
Нет лучшего «романа» о молодом империализме, чем ленинский «Империализм как высшая стадия капитализма». Он полон фактов и цифр, которые никак нельзя назвать сухими — гак много в них слез, пота, крови, нефти и керосина, финансовых бурь, океанских вод, золотых дождей и водопадов политиканского красноречия. По накалу изображенных страстей страницы ленинского «романа» могут соперничать сразу с Шекспиром и Мольером одновременно. Возможно, читатели подумают, что я преувеличиваю? Отнюдь нет. Вот ведь и часто цитируемый Лениным, далеко не литературный берлинский журнал «Банк» считал, что «на международном рынке капиталов разыгрывается комедия, достойная пера Аристофана».
И этот же журнал не скрывал, каковы гонорары «актеров»: «уступка в торговом договоре, угольная станция (то есть, лишний порт в далеких водах для заправки грузовых судов, а при необходимости — и дредноутов. — С.К.), постройка гавани, жирная концессия, заказ на пушки»…
А последнее становилось все более нужным. Почти одно временно с версальскими речами Вильгельма в 1872 году английский еврей Дизраэли, лидер аристократичных консерваторов, бывший и будущий премьер-министр Ее Королевского величества Виктории и будущий лорд Биконсфилд, выступал в Хрустальном дворце в Сайденхэме близ Лондона. Бывшее главное выставочное здание Всемирной Лондонской выставки 1851 года было насквозь пронизано солнцем, и это не метафора. Железный каркас дворца заполняли стеклянные плиты — он задумывался как символ светлого, обеспеченного новыми возможностями общества. Однако Британии этого лондонского солнца было уже мало. Для Дизраэли существовало лишь светило, обязанное не заходить над Британской империей, к расширению которой он и призывал. Друг Ротшильдов знал, что говорил, так же как и его преемник лорд Солсбери, разъяснявший новую колониальную политику так: «Раньше мы фактически были хозяевами Африки, не имея надобности устанавливать там протектораты или нечто подобное — просто в силу того, что мы господствовали на море».