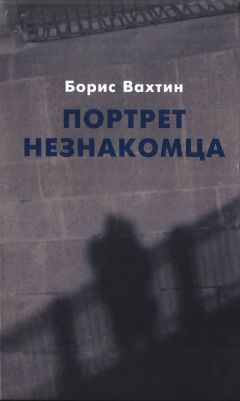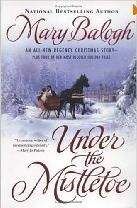— Ночь каркает за твоим окном, как ржавый гвоздь из доски, а мне все едино, римский папа — и пусть. Никого и ничего, только бы подстилкой у царских врат, потому что главное — гений, а все остальное — пусть…
Улетают огни летчика Тютчева, бледнеют с зарей лампочки на ветке, затекают ноги мои от сидения на краю.
О всех нас с вами, вот ведь в чем дело.
13. Песня около козы
Мы часто большинством двора выезжали на природу, и женщина Нонна везла нас навалом в своей машине, а сзади в такси следовал Циркачев со своей компанией и с девочкой Веточкой.
Мы отдыхали в бору над рекой, где паслась коза. И около козы у писателя Карнаухова и художника Циркачева получилось недружелюбное столкновение.
— Ваши черные брюки мешают мне рисовать, — сказал Циркачев небрежно.
— Жаль, — сказал Карнаухов, — но я не могу отойти именно от этой вот травинки и именно от этого вот кузнечика, которые делают мне настроение.
И он сказал это тоже небрежно.
— Как это допустимо — торчать у великого художника в глазу, — сказала толстая баба Фатьма, — имея за душой в преклонном возрасте лучший рассказ о полете на Луну и еще что-то про метро без зарубежной прессы.
Но тут в дискуссии вышла пауза песней летчика Тютчева:
Друг мой!
Улыбку набекрень!
Вместе в разрывах облаков.
Буду
И не забуду,
Что путь далек,
Хотя, конечно, с нами Бог!
Вспомни
Ромашек пересвет,
Камень,
Что у дороги лег.
Буду
И не забуду
А-ля фуршет,
Хотя, конечно, путь далек.
Летчик Тютчев кончил свою песню, Молчаливый пилот дал ему закурить, и они поняли друг друга из фляжки.
Но души писателя Карнаухова и художника Циркачева от песни не проветрились. Речь у них шла около козы о самом главном в творчестве.
— Друг мой, — сказал художник Циркачев, обращаясь к девочке Веточке кротко, как Христос, но уверенно, как лектор по радио, — стань вот сюда и заслони своей талией это пятно.
Но девочки Веточки, может, и хватило бы на что другое, только не заслонить писателя Карнаухова, обширного, как облако.
— Дело не в прессе, — сказал Карнаухов, — дело в осуществлении замысла.
Но тут вмешалась коза.
Она подошла и встала как вкопанная между писателем Карнауховым и художником Циркачевым ко всеобщему временному удовлетворению.
14. Беседа
Часть населения нашего дома сидела на лавочке возле котельной и миролюбиво беседовала.
— Если, конечно, так, — сказал бывший рядовой Тимохин, — то значит, в этом смысле все так буквально и будет.
— В этом буквально смысле, я считаю, и будет, — сказал писатель Карнаухов.
Но летчик Тютчев сказал:
— Я не согласен. Если бы так было, то уже было бы, но так как этого ничего нет, то значит, и вероятности в этом уже никакой нет.
Старик-переплетчик прикурил у летчика Тютчева и сказал:
— Вот оно как получается, если вникнуть.
Но бывший рядовой Тимохин обиделся словам летчика Тютчева и сказал примирительно:
— Не в том суть дела, Федор Иванович, что нет в этом никакой вероятности, а в том, что, значит, в этом смысле все совершенно так и будет, как я сказал.
И писатель Карнаухов подтвердил:
— Я так считаю, что в этом смысле и будет.
Может, и плохо бы все это кончилось, но тут прошла мимо женщина Нонна и одним только видом своим уже переменила тему беседы.
— Ты, дед, покури, — сказали летчик Тютчев, бывший рядовой Тимохин и наш писатель Карнаухов и пошли в магазин пройтись, а старик-переплетчик остался покурить и посмотреть, как маленький мальчик Гоша, раздобыв где-то столовую ложку, ест с ее помощью лужу во дворе напротив котельной; и как выбежала женщина Нонна и стала звонко выбивать из мальчика Гоши интеллигентность; и как я прошел домой, и как мне стало жарко на сердце, когда я поздоровался с женщиной Нонной, а она ответила мне на вы, потому что стеснялась мальчика Гоши и берегла его мораль.
А потом они пошли назад мимо мальчика Гоши, который уже играл сам с собой в прятки и считал:
— Раз, два, три, четыре, пять…
— А я думаю, это буквально так, — сказал наш писатель Карнаухов и почесал живот рядовому Тимохину.
И солдат Тимохин обнял летчика Тютчева и заплакал у него на груди, объясняясь ему в любви немногими жесткими словами.
Только летчик Тютчев держался железно, потому что он попадал и не в такие переплеты.
— А раньше такое бывало? — спросил он испытательно.
Писатель Карнаухов устал идти и сел у стены.
— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! — завопил мальчик Гоша так, что зазвенели стекла в окнах, а писатель Карнаухов обрел новые жизненные силы и встал.
— Бывало, — сказал он уверенно, после чего летчик Тютчев понес их домой вместе с Тимохиным, поскольку идти они затруднялись.
15. Как художник Циркачев употребил бывшего солдата Тимохина между прочим и в первый раз
— Мало осталось, — сказал однажды Циркачев, глядя Тимохину через глаза прямо в душу, — мало осталось таких мужчин, чтобы подать руку взаимной помощи.
Бывший солдат Тимохин растрогался, заморгав, и сказал речь, что в разном смысле, как известный летчик Тютчев разъяснял насчет исключительных обстоятельств, и закурить тоже пожалуйста.
— Не курю, — сказал Циркачев и сделал ладонью «чур меня». — Никого, понимаете, нет у меня, чтобы плечом к плечу, не выдать и так далее.
И солдат Тимохин растрогался, понятно, еще больше и сказал, что рука у него одна, но чтобы выдать — никогда и даже так далее.
И честно подставил Циркачеву оба глаза для смотрения через них в душу, потому что ни в чем не откажешь, когда такой разговор и потребность в друге.
И девочка Веточка зачастила к Циркачеву для позирования, но при чем тут Тимохин и как, не знаю, однако, при чем-то.
16. Большая летучая мышь
На лестнице утекло много воды, и стенки исцарапала история, а внизу направо жил камин, давно не пахнувший пеплом и холодный, как льдина.
На третьем этаже имелась дверь с гирляндой звонков и с бытовой гармонией, кому сколько полагается звонить и какая правда в какой ящик.
Почти каждое утро из этой двери выпархивала большая летучая мышь и неслась по лестнице навстречу погасшему камину, чужому двору, подворотне и духовной пище.
И в мастерской художника Циркачева она грела чай, держала, ставила и пособляла.
И почти каждый вечер в эту дверь влетала летучая мышь и неслась бесшумно по коридору в узкую комнату, где на кровати, рядом друг с другом, спали брат и сестра. Лежал на столе недоеденный хлеб, кисло молоко в бутыли, и детские одежки на стуле рассказывали о возрасте и сантиментах.
Они еще спали, утром, а летучая мышь спешила бесшумно убраться, чтобы не дать спящим проснуться и к ней позвать. Неслась она по лестнице вниз, навстречу зеленому двору, камину, подворотне и духовной пище, почти каждое утро, пока спящие спали.
17. Встреча
Наш писатель Карнаухов, создав лучший и пока единственный рассказ о полете на Луну, по многим непонятным причинам загрустил и ничего больше написать не мог.
Талант у него, конечно, был, и работал он на заводе, в гуще жизни, и условия ему государство создало, заботясь, а он вовсе пребывал в нерешительности, говоря, когда мы гуляли вместе:
— Там, где другие видят просто дом, я не вижу просто дом, а без новой философии это неубедительно.
— Ишь чего захотел, — говорил старик-переплетчик.
— Потребность, а не ишь чего, — отвечал Карнаухов.
— У меня-то есть, — однажды вставил я робко.
— У тебя, может, и есть, — сказал Карнаухов, — но ты не писатель, поэтому толку нет, что у тебя есть, понимаешь ли, в чем тут тонкость.
— В парашютисты иди, — сказал летчик Тютчев. — А то ум на тебе заметен, как тельняшка, а там кувырком вниз на три тысячи метров и больше, так что много будешь иметь себе пользы.
Писатель Карнаухов закричал, что это в самую точку, а я вообразил и содрогнулся.
Навстречу нам попался Циркачев, с толстым молодым человеком вместе во главе, а следом кочевала толпа поклонников его таланта, употребленных раз и навсегда, развлекая друг друга в ожидании своей надобности во имя искусства.
Секунду Циркачев подумал, потом решительно остановился.
— Познакомьтесь, — сказал он нам значительно. — Это мой друг и покровитель, специалист по делам православной церкви, ценитель искусства, проездом, а также любит Шопена… А это, — сказал он толстому молодому человеку, — наш писатель Карнаухов, слышали, может быть.
— Очень приятно, — сказал молодой человек, специалист по православной церкви. — Много читал, очень приятно.