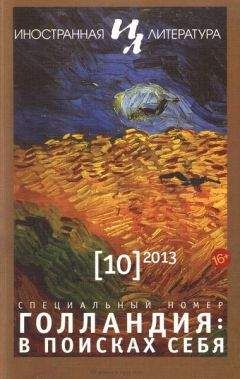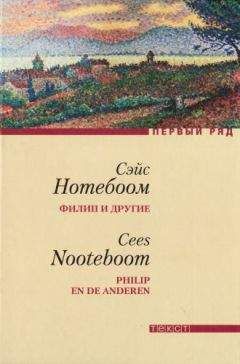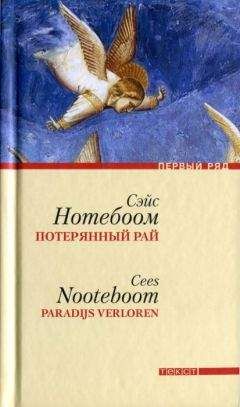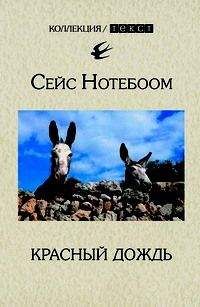Противоречивые намерения. Без малого пятьсот лет тому назад в Сеговии разгорелось восстание комунерос под предводительством Хуана Браво. Однако, чтобы понять, почему оно произошло, придется еще глубже уйти в прошлое, в зрелое Средневековье, — ведь история всегда ссылается сама на себя. В те времена народ был практически бесправен, однако, после Реконкисты, отвоевания у мавров больших территорий, в целях привлечения людей на новые земли им были даны fueros, привилегии, долгое время закрепленные за дворянством и духовенством. Так, в различных испанских королевствах возникали законодательные собрания — Кортесы. Их нельзя сравнивать с современным парламентом, и все же они гораздо раньше, чем где-либо в Европе, отображали раннюю стадию демократического сознания испанцев. Леон уже в 1188 году имел собственный парламент, Арагон — в 1163-м, Каталония — в 1228-м, а Кастилия — в 1250-м. Понятно, что на протяжении веков испанские короли рассматривали набирающее силу самосознание парламентов, куда входили дворяне (nobilarios), духовенство (eclesiásticos) и представители городов (populares), как умаление их собственной власти.
Собрания, которые созывали от случая к случаю, когда королю требовались деньги, переросли в самодостаточные и оттого малоприятные для него институции, и, когда Карл V, презираемый испанцами за то, что даже не говорил по-испански, а только по-фламандски, и раздавал высшие должности в Испании иностранцам, в очередной раз повысил налоги, чтобы обеспечить свою международную политику, поднялось восстание. «Народные движения, — пишет Густав Фабер в книге „Испанское общество“, — начинаются снизу, и все-таки нужны предводители, которые сформировали бы эти движения». Вот оно опять: невидимое, по большей части уже непостижимое — идея, гнев, месть, — растущее, словно волна, изнутри наружу и влекущее безымянную массу. «Священная хунта» — народ, аристократия и духовенство во главе с Хуаном Браво требуют уменьшения налогов, назначения чиновников из местных и правовых реформ. Восстание направлено не против королевской власти, но против назначенцев Карла. В Толедо создаются народные комитеты (слово, уместное скорее в XVIII веке, нежели в XVI). Испания гудит, восстание охватывает все новые города, несмотря на большие расстояния. За Сеговией и Толедо следуют Гвадалахара, Авила, Мадрид, Алькала-де-Энарес; общим решением смещен регент Карла — голландец, позднее папа римский Адриан VI. С войском наемников Адриан выступает против Сеговии, но, когда он собирается завладеть складом боеприпасов в Медина-дель-Кампо, те тут же взлетают на воздух, превращая весь город в груду развалин. Гнев и горечь, другие города присоединяются к мятежу, в Сеговии двоих делегатов обвиняют в предательстве и подвешивают вниз головой.
Затем наступает один из тех моментов, которые так и просятся в историческую драму или в оперу, но своего Верди у испанцев нет. Католические короли, Фердинанд и Изабелла, бабушка и дедушка Карла V, выдали своих дочерей за европейских монархов. Католические короли, Reyes Católicos: у нас такого нет, мы не можем назвать королями монаршую чету, испанцы же говорят так до сих пор — когда Хуан Карлос и София куда-нибудь отправляются, пресса сообщает о том, что короли отправились туда-то и туда-то, как будто речь идет о двух мужчинах. Хуана, известная впоследствии как Хуана Безумная, получила в мужья Филиппа Красивого, сына австрийского императора, а Габсбургам в качестве приданого досталась Испания. В 1506 году Филипп Красивый скончался в Бургосе от «лихорадки», а Хуана, у которой и раньше наблюдались симптомы маниакально-депрессивного расстройства, попросту говоря, сошла с ума. Гроб нельзя было закрывать, Хуана должна была каждый день видеть своего любимого даже мертвым. Словно в фильме ужасов, двигалась по Испании распространяющая чумной дух процессия, и каждый вечер для королевы открывали гроб. Вскоре собственный сын-император заточил обезумевшую Хуану в монастырь в Тордесильясе.
Теперь все вертится вокруг нее. Монарх — в Германии, мятежники призывают Хуану занять трон, но сторонники Карла тоже обращаются к ней. Хуана не понимает, почему те, кто отправил ее в монастырь, теперь так сильно в ней нуждаются, и отказывается. Священная хунта с Хуаном Браво во главе предлагает сделать Хуану королевой всех испанских территорий, между прочим, по праву унаследованных ею. Двор переезжает в монастырскую тюрьму в Тордесильясе — это место сейчас открыто для посещений, а наполовину рассохшийся спинет королевы Хуаны, более чем что-либо другое, говорит о плачевном ее положении. Там же собирается парламент, а народ присягает на верность королеве. Была ли Хуана действительно сумасшедшей? Понимала она, что происходит, лишь иногда или же с самого начала знала все? Согласись она, и тогда к ней вернулась бы власть, а ее заточению пришел бы конец. Но если бы она отказалась, тогда трон перешел бы к ее далекому, отсутствующему сыну-«фламандцу».
Итак, в опере звучит ария сомнений. На одной чаше весов — свобода и корона из рук комунерос, на другой, за стенами монастыря, — сторонники сына, заточившего мать в тюрьму. И тут предводители комунерос совершают роковую ошибку. С их согласия сомневающуюся королеву, неуверенность которой еще усиливает ее духовник (баритон, я так и слышу их дуэт), подвергает экзорцизму другой священник — вселившийся в Хуану дьявол должен быть изгнан. Это отнимает слишком много времени, сторонники короля снова вторгаются в город, аристократия, наиболее сильная в военном деле, благодаря ловкому маневру Карла, переходит из Священной хунты на сторону короля, и в битве при Вильяларе народные повстанцы терпят поражение. Епископа Саморского отправили на гарроту, Хуан Браво вместе с семьюдесятью тремя другими комунерос были обезглавлены в Сеговии, а парламент утратил всякую силу.
Повстанцы становятся названиями улиц, кровь — адресами. Я прохаживаюсь вдоль магазинов на калье Хуан Браво, выхожу на улицу Изабеллы Католической, изумляюсь, с каким упорством сохраняют здесь имена, и выхожу к собору. Химера вдалеке, с балкона кажущаяся то черной зловещей тенью, то сверкающей, пылающей эмблемой; вблизи очертания, разные в разное время дня, выглядят озлобленными, ощетинившимися. Доброму Боженьке здесь не место. Напротив, в этих стенах хозяйничает Бог пустыни, некогда скитавшийся в ковчеге по выжженной земле. И хоть и приходится ему терпеть рядом с Собой идолов, все же Он по-прежнему тот самый Бог, Бог Авраама и Исаака, мстительный и жестокий, хоть теперь его стихия не жара, но холод. Ни следа мягкости романских церквей, это — крепость, воплощение мощи, подавляющей человека. Я прогуливаюсь среди этого окаменелого триумфализма. У одного из алтарей служат мессу, но человеческий голос звучит здесь глухо, ему не дозволено быть самим собой, он низведен до едва различимого униженного шепота, прячущегося в высоких холодных сводах, кажущихся дальше самих Небес. В этом огромном вокзале, заполненном белой святостью, высокие хоры расположены в отдалении и изолированы в каменном пространстве. Боковые капеллы скрываются в полутьме. Пытаемые на дыбе святые страдают, почти неразличимые, за решетками, и лишь высокие, далекие окна пропускают редкий солнечный свет. До дверных косяков не дотянуться, даже если четыре человека встанут друг другу на плечи, и в одни из этих дверей я выхожу на улицу, где воздух снаружи ощущается как освобождение. Я стою на голой, никуда не ведущей площади, выложенной крупным булыжником, между камнями пробиваются жесткие и неумолимые сорняки. Над площадью носится ветер с равнин, вдали виднеются заснеженные вершины Сьерра-де-Гуадаррама.
Сеговия — в общем-то, стиснутый город. Пройдите под одной из арок акведука, и вам покажется, что узкие улочки смыкаются позади вас. Вы пробираетесь переулками, мимо ресторанов с выставленными на витринах бесстыжими головами молочных поросят на девственно-чистых передних ножках, проходите мимо старинных магазинов, торгующих пряжей, лентами и ultramarinos[6], и вдруг — диво дивное! — перед вами возникает одна из великолепных романских церквей (а их здесь двадцать!). Полюбуйтесь, как внизу, в долине, петляет среди зелени Эресма, и вот вы сами, без посторонней помощи, оказываетесь у Алькасара. Если не знать, что он настоящий и действительно древний, можно подумать, что его выдумал Антон Пик[7]. С зубчатых стен донжона свесилась детвора и кричит: «Viva Asturias! Да здравствует Астурия!» Крики ненадолго повисают в воздухе и рассеиваются над глубоким оврагом. Алькасар стоит на высокой скале и кажется неприступным. Остроконечные башни, глухие стены, странные округлые смотровые башни донжона, похожие на подсвечник, куда ставят гигантские свечи, чтобы по ночам освещать всю Кастильскую месету. Испанские короли, перебиравшиеся, точно гонимые цыгане, из замка в замок, любили Алькасар больше прочих. Филипп II женился здесь в четвертый и последний раз, и в утро свадьбы, переодетый до неузнаваемости, смешался с толпой гостей, чтобы увидеть свою невесту еще до того, как она увидит его. История совершается не только на полях сражений, но и в спальнях, часто умышленно, эдакий сексуальный способ творения истории, ныне, увы, позабытый: сама мысль о том, что в этот миг в буквальном смысле соединяются два королевства, должна была подстегивать. Новая жена короля Филиппа, обязанная произвести наследника, была тоже из Габсбургов, и генетические последствия не заставили себя ждать. Короля-монаха Филиппа II осчастливили Филиппом III, который тоже взял в жены уроженку Габсбургского дома, и та подарила ему Филиппа IV — самого любвеобильного из европейских монархов, зачавшего со своей женой, разумеется тоже из Габсбургов, восьмерых детей, шестеро из которых тут же умерли, в то время как внебрачные дети Филиппа выжили все до одного. Конечным результатом оказался бедняга Карл II — зачарованный, el hechizado, больной импотент, с трудом влачивший существование. Когда же он наконец-то умер, из-за его кончины в Европе разразилась жестокая война за испанское наследство.