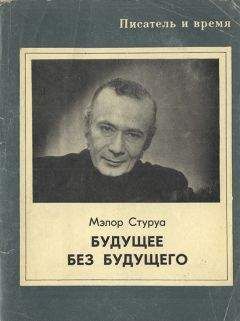Полицейский «воронок» доставил нас в мэрию. Мэр Вудро («Вуди») Дюма — «никаких родственных связей с Александрами Дюма, отцом и сыном», видимо, в который уже раз сострил он, — приветствовал нас у выхода из лифта и тут же передал на попечение судьи Элмо Лира.
Подобно своему знаменитому шекспировскому тезке, судья Лир стар и сед. Вот только вместо трех дочерей у него одна — четырнадцатилетняя Мелинда. Я узнаю об этом но со слов судьи, а из предвыборного буклета, который он нам презентовал. Буклет озаглавлен: «Судью Лира в апелляционный суд. Поддержим опытного судью». Лир и впрямь опытный судья и политикан. Впервые он избирался окружным судьей в 1962 году. В 1966, 1972 и 1978 годах он переизбирался, не имея конкурента, хотя никогда не играл в футбол и не мог похвастаться отцом — олимпийским чемпионом. Выпускник Луизианской школы права, так сказать, доморощенного Гарвардского университета, из которого выходит правящая верхушка штата, бывший военный летчик, имеющий восемь боевых наград, бывший помощник генерального прокурора Луизианы, известный адвокат по уголовным делам. Ну как не поддержать столь опытного судью!
Судья Лир приглашает нас в зал, где обычно заседает городской магистрат. Здесь мы впервые за нашу поездку сталкиваемся с телевидением. По-видимому, судья решил использовать встречу с иностранными корреспондентами в своих предвыборных целях. Правда, у него опять нет оппонента — кому охота тягаться с судьей Лиром, — но лишнее паблисити никому и никогда еще не вредило.
Присутствие телевизионной камеры властно диктует формат беседы. Судья Лир залезает на высокую кафедру и разражается длиннющим монологом не о людской неблагодарности, по Шекспиру, а о благах американской демократии, тоже по Шекспиру, однофамильцу великого английского драматурга, долгое время возглавлявшего информационную службу США на заграницу. Из вежливости послушав несколько минут заздравную речь Лира, я перебиваю его своим вопросом:
— Судья Лир, сэр, есть ли политические заключенные в ваших тюрьмах?
— Нет, — по-военному отрезает Лир, — переводя взгляд с меня на глазок телекамеры и обратно.
— А заключенные, считающие себя политическими?
— Есть, — столь же лаконично отвечает Лир и после нерешительной паузы добавляет: — Если бы я оказался за решеткой «Анголы», я бы выдал себя не только за политического, но за кого угодно, лишь бы выйти на свободу.
— И это помогло бы вам?
— Нет, не думаю.
— А что, если осужденные вами люди становятся политическими уже в тюрьме?
— После того как мы выносим приговор подсудимому, мы перестаем интересоваться его личностью и судьбой.
— И это хорошо?
— Нет, мы понимаем, что это плохо.
— Судья Лир, сэр, вот вы сейчас ведете избирательную кампанию. Поднимаются ли в ходе ее вопросы, связанные с правами человека?
— Нет, впрочем, да, вопрос о равноправии мужчины и женщины.
— А у вас есть женщины-судьи?
— Нет.
— Вы занимаете различные судебные должности вот уже с 1962 года. Приходилось ли вам когда-либо за эти годы заниматься проблемами, имеющими хоть какое-либо касательство к правам человека или гражданским правам?
— Нет, не приходилось.
Затем судья Лир пытается втолковать мне, что в Соединенных Штатах правосудие находится вне сферы политики, что судей избирают не по принципу демократ он или республиканец, а по тому, насколько он опытен и честен.
— Опыт и честность — вот мои единственные предвыборные обещания, — гордо говорит судья Лир, косясь в сторону телевизионной камеры.
— Но ведь с приходом к власти той или иной администрации, как правило, меняется состав судей и шерифов?
— Опытные, честные судьи и шерифы есть и среди демократов и среди республиканцев, — отвечает находчивый судья Лир. Затем, словно вспомнив что-то, присовокупляет: — Вы спрашивали меня о теме прав человека в ходе моей избирательной кампании. Я забыл упомянуть, что я за равноправие для всех национальных меньшинств.
— А у вас есть хоть один судья негр?
— В окружном суде Батон-Ружа пока что нет ни одного негра. Но в этом нет ничего страшного. Это ровным счетом ничего не означает. Ведь мы, судьи, представляем не население, а закон.
Элмо Лир по-своему прав. Он и его сословие представляют закон, который, в свою очередь, представляет и защищает интересы господствующих классов. А последние — меньшинство населения. Именно этими ножницами и подстрижена американская демократия.
Судью Элмо Лира сменяет судья Том Пью. Это, видимо, очень больной человек. Он с трудом передвигается, тяжело опираясь на палку-костыль. Том Пью — старший судья по семейным делам, Судя по его виду, по его страдальчески сморщенному лицу, невеселы дела семейные в Луизиане. Слова судьи подтверждают это ощущение.
— Мой мир населен разбитыми сердцами, — говорит он. — Передо мной проходят человеческие жизни от колыбели до могильной плиты, и опыт все больше убеждает меня в том, что в нашей стране институт семьи находится под большой угрозой. И в отношении малолетних преступников наша система оказывается неадекватной. Война во Вьетнаме произвела деморализующий эффект на все наше общество…
То ли судья Пью никуда не избирается, то ли его слова портят музыку, но оператор отключил телевизионную камеру и дремлет, уютно пристроившись на гостевых местах…
Прежде чем покинуть здание мэрии, мы были приглашены в кабинет мэра Вудро («Вуди») Дюма. Мэр угостил нас сандвичами на бумажных тарелочках и кофе в бумажных стаканчиках. Дюма извинился за столь скромное угощение и за столь примитивную сервировку.
— У нас туговато с представительскими, — сказал мэр и, указывая на простецки одетого пожилого мужчину, прислуживавшего нам, добавил: — Если бы не он, нам пришлось бы совсем худо.
Хозяева понимающе засмеялись, а гости стали недоуменно переглядываться.
— В чем соль шутки? — шепнул я судье Дэниелсу.
— А в том, что прислуживающий вам мужлан — мультимиллионер. Мэр придумал для него какую-то фиктивную должность, а он, в свою очередь, предлагает к его услугам кошелек, когда в казне мэрии заводятся церковные мыши.
Я уже иным взглядом покосился на кельнера-креза, который в этот самый момент сгребал со стола использованные бумажные тарелочки, стаканчики, салфеточки и засовывал их в пластиковый пакет, вложенный в мусорную урну. Перехватив мой взгляд, кельнер-крез осведомился:
— Вам еще кофе?
— Да, пожалуйста, — ответил я, хотя вообще-то остерегаюсь употреблять этот напиток. Просто было любопытно. Затем я в порядке эксплуатации эксплуататора сгонял кельнера-креза сначала за молоком, затем за сахаром и, наконец, за сдобными луизиаыскими булочками. Он беспрекословно выполнил все мои требования и даже стряхнул крошки с моего пиджака. Будучи одним из подлинных хозяев города, он мог позволить себе роскошь притворяться лакеем в то время, как его лакеи за его же счет позволяли себе роскошь разыгрывать хозяев города.
— Правда ли, что Батон-Ружем и Луизианой заправляют нефтяной бизнес, бароны прессы, федеральные судьи и организованная преступность? — спросил я мэра, вспомнив рассказы судьи Дэниелса о структуре подлинной власти в его родном штате.
— Чепуха, — резко возразил Дюма — отец города. — Подлинная власть находится в руках народа и осуществляется его законными избранниками.
Здесь кельнер-крез впервые, как мне показалось, оторвался от бумажных тарелочек, стаканчиков, салфеточек и пристально взглянул на «Вуди», мэра Батон-Ружа. Тоже бумажного.
На прощание луизианский Дюма произвел всех нас в почетные граждане Батон-Ружа, вручил соответствующие грамоты, сделанные под пергамент, и ключи города, вернее ключики, размером не более английской булавки. В моей грамоте говорилось, что властию, данной ему городом Батон-Ружем, мэр Дюма «производит Мэлора Стуруа в его почетные горожане и присваивает ему все полагающиеся права и привилегии в знак признания высокого почтения, которым он пользуется в глазах населения Батон-Ружа». Грамота была скреплена золотым гербом города, не настоящим, а наклеенным, бумажным, и рекламным лозунгом — «Батон-Руж — самый быстрорастущий город Луизианы».
Этот лозунг содержал единственно достоверную информацию в лжеграмоте. Все остальное — о правах, привилегиях, высоком почтении и так далее — было ритуально-приятной чушью. Кстати, население Батон-Ружа, в глазах которого я, оказывается, пользуюсь высоким почтением, и в глаза меня не видело, если не считать судей, шерифов и заключенных. Если же кто-нибудь из прохожих и обратил случаем внимание, когда меня возили в полицейском «воронке», то, вероятнее всего, он принял меня за преступника. Хотя, памятуя о реальной батон-ружской структуре власти, это обстоятельство, взятое само по себе, отнюдь не лишало меня права на высокое почтение. Недаром среди многих тысяч заключенных в луизианских тюрьмах представители организованной преступности составляют менее одного процента! Их обычно не держат под ключом. Им преподносят золотые ключи. Не игрушечные позолоченные ключики с английскую булавку, а настоящие, подвешенные к увесистой цепи реальных прав и привилегий. Не прав человека, а прав эксплуатировать и грабить его…