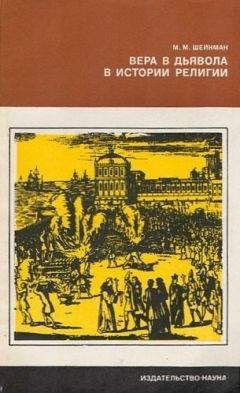уважающий себя свободный человек...» [326]
Вот какое категоричное высказывание. Однако возникает вопрос, за кого же ратует на самом деле Платон, ибо трудно себе представить, чтобы одни и те же люди отрицали существование богов и в то же время делали жертвоприношения, щедрые жертвоприношения, как уточняет Платон, чтобы никто не посчитал их скупыми людьми. Так что заявление греческого мыслителя выглядит по меньшей мере странным. Что же до сравнения с хищными животными, то философ подразумевает участников празднеств в честь бога Вакха (Диониса), рядившихся в шкуры пантер, которые по традиции ассоциировались с именем Диониса. Вот, похоже, за кого ратовал Платон.
Кроме того, Платон, наверняка хорошо знавший своих богов, утверждал, что они не обязательны перед верующими и в то же время продажны (доказательством тому служит крайнее усердие, с каким боги преследуют слишком красивых смертных обоих полов), и это помимо того, что они капризны, грубы и драчливы. Делая вид, что поносит колдунов, а на самом деле прикрываясь замысловатой риторикой, Платон исподволь критиковал не только чрезмерное религиозное рвение верующих, но и самих богов. В «Этифроне» [327], когда он подводит теолога Этифрона к Сократу и тот говорит ему о благочестии и набожности, богослов так и не понимает смысл высказывания философа. В «идеальной республике» он, без сомнения, занял бы крупный государственный пост.
В действительности — и это хорошо прослеживается как в «Этифроне», так и в «Тимее» — Платон выступает как пифагореец, то есть представитель Востока. Он — мистик и более близок к Заратустре и философии мистических таинств, чем к аттической философии. В самом деле, пифагорейцы верили в метемпсихоз [328], который они унаследовали от индийского ведизма. Об идее бессмертия души говорится в «Федоне» и особенно подробно в «Банкете», где Платон утверждает, что боги и люди общаются между собой через посредников в лице небезызвестных даймониев, которые по своей сути выступают в роли добрых духов (как это ни парадоксально звучит, но именно у Платона христианские авторы позаимствовали идею о демонах, заселивших воздушное пространство вокруг нас). Позднее об этом будут говорить христианские схоластики.
Впрочем, в I веке неопифагорейская школа слилась со школой Платона: обе заявили о том, что миром руководит высший порядок, идея. Жаклин де Ромилли на сей счет заявила: «Она (идея, правящая, по Платону, миром) обретает права на существование: все, что мы считаем реальным, на самом деле представляет собой затертую копию» [329]. В этом утверждении уже содержится намек на то, что реальный мир — иллюзия. Последователи гностицизма возведут этот тезис в постулат, заявив, что все материальное должно рассматриваться со знаком минус. Иными словами, религия Платона имеет чуждые Греции корни; особенно это заметно в «Республике»: когда Платон излагает принцип абсолютного, совершенного, познаваемого и сверхчувственного Добра, он расписывается в неприязни к греческому пантеону и всей эллинской религиозной практике, о чем не решался признаться в других книгах или скрывал под мишурой красноречия. Такое отношение входит в противоречие с греческой культурой, в основе которой диалектическая связь предмета и темы, что исключает Платона из числа эллинских философов, где он, впрочем, занимал уникальное положение скорее благодаря основанной им школе, чем своей деятельности. Ибо абсолютное Добро, прославляемое в «Республике», подразумевает абсолютное Зло, то есть дьявола — столь чуждого греческой философской мысли понятия. А за появлением злого гения последует неминуемое освобождение Олимпа и депортация богов! А это излюбленная тема последователей гностицизма и даже самого христианства. Вот почему платоновское учение так легко воспринималось христианами платоновского толка. Позднее оно окажет свое влияние на развитие разных форм теизма [330]. Можно сказать, что Платону оставалось совсем немного, чтобы отнести все Зло на счет дьявола.
Ксенократ [331], также как и ученик Платона Аристотель, стал автором настоящей демонологии: по его мнению, добрые или злые даймонии представляли собой блуждающие в пространстве души, которые еще не обрели телесную оболочку или оставили ее после смерти человека.
Интересовавшийся деятельностью колдунов, Аристотель полагал, что движущей силой всякого чародейства было чувство зависти, которое могло нарушить гармонию города — идеал греческого мира, а колдовство причинить ему вред, почему и практиковалось тайно в мрачных закопченных помещениях, в то время как богослужение совершалось открыто в торжественной обстановке. Бертран [332] указывал, что многие греческие мыслители считали зависть, phtonos, первопричиной всех бед; и ворожба, как инструмент зависти, противостояла религии, высшей задачей которой было поддержание порядка в обществе. Однако вынося приговор зависти, Аристотель вынужден был признать, что это недоброе чувство было одним из проявлений Зла и являлось «недостатком».
Под влиянием философских идей Востока и, несомненно, Ирана, Плутарх [333] затронул проблему даймониев в своих сочинениях «Об Исиде и Осирисе» и «De defectu oraculorum»: не вступая в спор с Ксенократом, он представил даймониев как промежуточных духов, способных превратиться в настоящие божества или же, наоборот, принять человеческий облик. Кроме того, он разделил их на добрых и злых и, давая им характеристику, обрушился на злокозненных даймониев за то, что они подбивали на дурные поступки как богов, так и людей, в то время как добрые духи призывали и тех и других к благородным деяниям. Все это напоминает гностицизм: раз есть Добро, где-то неподалеку должны находиться злые духи. Тут уж свое слово должна сказать христианская апологетика [334]: само существование злых даймониев освобождает богов от ответственности за их дурные действия. В этом умозаключении мало что остается от мировоззрения греков, ибо не может быть «свободы», если люди и боги подчиняются сверхъестественным силам. Мы уже почти подошли к постановке вопроса о дьяволе. Как только даймониев разделили на хороших и плохих, появилась необходимость делать выбор между ангелами и демонами.
Нам бы пришлось изрядно потрудиться, чтобы попытаться найти в работах греческих философов прообраз единого Зла, так же как, впрочем, и понятие единого божественного Добра. Было бы настоящим абсурдом рассматривать греческую философию как чисто интеллектуальное построение, чуждое повседневной жизни греков и их верованиям. Убедительное тому доказательство привел Кожев [335]: венцом учения Аристотеля, сформировавшегося под влиянием Платона, стали в эллинскую эпоху философские размышления стоиков [336], утверждавших, что высшее божественное начало, с которым можно отождествить космос, находится в состоянии вечного становления, а мир, где проявляется божественная сущность, пребывает в круговом и циклическом движении. Таким образом, все возвращается на круги своя, и нет «победителей» в споре идей, то есть греческая философия отвергает понятие истории в современной




![Уильям Арден - Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола]](https://cdn.my-library.info/books/208800/208800.jpg)