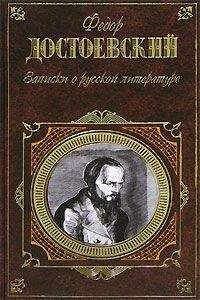Опять-таки, я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже, за Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное, и я уже сказал почему – за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тем замечательнее в Некрасове, что он всю жизнь свою был под влиянием людей, хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нем, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды и всегда ставивших европейское просвещение свое несравненно выше истины духа народного. Не вникнув в русскую душу и не зная, чего ждет и просит она, им часто случалось желать нашему народу, со всею любовью к нему, того, что прямо могло бы послужить к его бедствию. Не они ли в русском народном движении, за последние два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народного, которую он, может быть, в первый раз еще выказывает в такой полноте и силе и тем свидетельствует о своем здравом, могучем и неколебимом доселе живом единении в одной и той же великой мысли и почти предузнает сам будущее предназначение свое. И мало того, что не признают правды движения народного, но и считают его почти ретроградством, чем-то свидетельствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. Некрасов же, несмотря на замечательный, чрезвычайно сильный ум свой, был лишен, однако, серьезного образования, по крайней мере, образование его было небольшое. Из известных влияний он не выходил во всю жизнь, да и не имел сил выйти. Но у него была своя, своеобразная сила в душе, не оставлявшая его никогда, – это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, звериное подобие, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его и даже частию уверовать и в будущее предназначение его. О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться. Он мог воскликнуть в недавно напечатанном в первый раз экспромте его, с тревожным укором созерцая освобожденный уже от крепостного состояния народ:
Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если б его спросили, «чего же пожелать народу и как это сделать?», то он, может быть, дал бы и весьма ошибочный, даже пагубный ответ. И, уж конечно, его нельзя винить: политического смысла у нас еще до редкости мало, а Некрасов, повторяю, был всю жизнь под чужими влияниями. Но сердцем своим, но великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт! Всякий, выходящий из народа, при самом малом даже образовании, поймет уже много у Некрасова. Но лишь при образовании. Вопрос о том, поймет ли Некрасова теперь прямо весь русский народ, – без сомнения, вопрос явно немыслимый. Что поймет «простой народ» в шедеврах его: «Рыцарь на час», «Тишина», «Русские женщины»? Даже в великом «Власе» его, который может быть понятен народу (но не вдохновит нисколько народ, ибо все это поэзия, давно уже вышедшая из непосредственной жизни), народ отличит два-три фальшивые штриха наверно. Что разберет народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока еще – лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. Не говорю в будущем, – в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучше и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходить в очень тяжкие минуты свои к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать свое измученное сердце, – ибо любовь к народу у Некрасова была лишь исходом его собственной скорби по себе самом…
Но прежде чем разъясню, как понимаю я эту «собственную скорбь» дорогого нам усопшего поэта по себе самом, – не могу не обратить внимание на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессе сейчас после смерти Некрасова, почти во всех статьях, говоривших о нем.
III. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке
Все газеты, чуть только заговаривали о Некрасове, по поводу смерти и похорон его, чуть только начинали определять его значение, как тотчас же и прибавляли, все без изъятия, некоторые соображения о какой-то «практичности» Некрасова, о каких-то недостатках его, пороках даже, о какой-то двойственности в том образе, который он нам оставил о себе. <…> заговорив о Некрасове как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем как и о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин – до того связаны, до того оба необъяснимы один без другого и до того взятые вместе объясняют друг друга, что, заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете.
Но что же мы можем сказать и что именно мы видим? Произносится слово «практичность», то есть умение обделывать свои дела, но и только, а затем спешат с оправданиями: «Он-де страдал, он с детства был заеден средой», он вытерпел еще юношей в Петербурге, бесприютным, брошенным, много горя, а следственно, и сделался «практичным» (то есть как будто и не мог уж не сделаться). Другие идут даже дальше и намекают, что без этой-то ведь «практичности» Некрасов, пожалуй, и не совершил бы столь явно полезных дел на общую пользу, например, совладал с изданием журнала и проч., и проч. Что же, для хороших целей оправдывать, стало быть, дурные средства? И это говоря о Некрасове-то, человеке, который потрясал сердца, вызывал восторг и умиление к доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, все это говорится, чтоб извинить, но, мне кажется, Некрасов не нуждается в таком извинении. В извинениях на подобную тему всегда заключается как бы нечто принизительное, и как бы затемняется и умаляется образ извиняемого чуть не до пошлых размеров. В самом деле, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тем как бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при известных обстоятельствах, чуть не необходима. А если так, то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: «Я упал, я упал». И это в бессмертной красоты стихах, которые он в ту же ночь запишет, а назавтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого – и необходима. Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства, не более, и даже в самом пошлом его значении, потому что он эти стихи сам похваливает, сам на них любуется, ими совершенно доволен, их печатает, на них рассчитывает: придадут, дескать, блеск изданию, взволнуют молодые сердца. Нет, если все это оправдывать, да не разъяснив, то мы рискуем впасть в большую ошибку и порождаем недоумение, и на вопрос: «Кого вы хороните?» – мы, провожавшие гроб его, принуждены бы были ответить, что хороним «самого яркого представителя искусства для искусства, какой только может быть». Ну, а было ли это так? Нет, воистину это не было так, а хоронили мы воистину «печальника народного горя» и вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя, и сам с отвращением и самобичеванием отвергал дешевое примирение.
Нужно выяснить дело, выяснить искренно и беспристрастно, и что выяснится, то принять как оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни на какие дальнейшие соображения. Тут надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы как можно точнее добыть из выяснений фигуру покойного, лицо его; так наши сердца требуют, для того чтоб не оставалось у нас о нем ни малейшего такого недоумения, которое невольно чернит память, оставляет нередко и на высоком образе недостойную тень.
Сам я знал «практическую жизнь» покойника мало, а потому приступить к анекдотической части этого дела не могу, но если б и мог, то не хочу, потому что прямо окунусь в то, что сам признаю сплетнею. Ибо я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного, по крайней мере половина, а может быть, и все три четверти, – чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, – не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случалось, – то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но, приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое? Нечто мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что – что же означают тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что «он упал», эта страстная исповедь перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь? Опять-таки в анекдотическую сторону дела вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта как бы предсказана им же самим, еще на заре дней его, в одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных, кажется, еще до знакомства с Белинским (и потом уж позднее обделанных и получивших ту форму, в которой явились они в печати). Вот эти стихи: