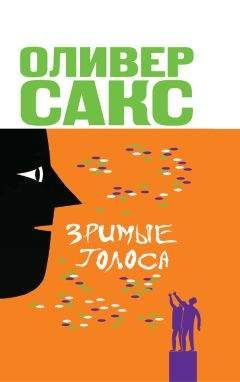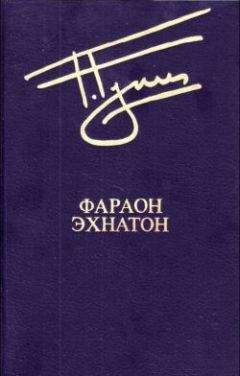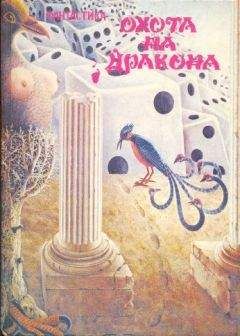Ознакомительная версия.
Глумова (выходя из боковой двери). Зачем ты заставляешь меня писать эти письма! Право, мне тяжело.
Глумов. Пишите, пишите!
Глумова. Да что толку? Ведь за тебя не отдадут. У Турусиной тысяч двести приданого, родство, знакомство, она княжеская невеста или генеральская. И за Курчаева не отдадут; за что я возвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины!
Глумов. Кого вам больше жаль, меня или гусара Курчаева? На что ему деньги? Он все равно их в карты проиграет. А еще хнычет: я тебя носила под сердцем.
Глумов. Да если бы польза была!
Глумов. Уж это мое дело.
Глумова. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду?
Глумов. Имею. Маменька, вы знаете меня; я умен, зол и завистлив; весь в вас. Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил. Нет, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеры не составишь, карьеру составляют и дело делают в Петербурге, а здесь только говорят. Но и здесь можно добиться теплого места и богатой невесты, — с меня и довольно. Чем в люди выходят? Не все делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. И чтоб в этой обширной говорильне я не имел успеха! Не может быть. Я сумею подделаться и к тузам и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать, им надо льстить, грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, с кружка Турусиной, выжму из него все, что нужно, а потом заберусь и повыше. Подите, пишите! Мы еще с вами потолкуем.
Глумова. Помоги тебе бог! (Уходит.)
Глумов (садится к столу). Эпиграммы в сторону!… Примемся за панегирики. (Вынимает из кармана тетрадь.) Всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник, а на устах останется только мед. Один, в ночной тиши, я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики, я один буду и автором, и читателем. Разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение.
— Спасибо, — остановил Товстоногов читающих, — этого нам будет достаточно.
Затем обратился к режиссеру:
— Итак, мы на первой читке. С чего бы вы начали?
— Что здесь происходит? — сказал режиссер. — Сцена начинается с очень важного момента в жизни Глумова. Он решил начать совершенно новую жизнь. Какие письма должна писать мать, кому Глумов их посылает и зачем они ему нужны?
Заметив, что все как-то «зажались», Товстоногов сам включился в беседу.
Я Глумов, — предложил он. — Я прошу писать письма на Курчаева, чтобы дискредитировать его в глазах Турусиной. Я прошу писать эти письма мать, потому что это самый верный для меня человек, она меня никогда не продаст.
Значит, вы начинаете новую жизнь, — продолжал режиссер, — и начинаете с того, что пишете анонимки. Шаг достаточно серьезный. Вы это делаете для того, чтобы попасть к Турусиной. Это первый шаг, и очень важный. Ваше будущее, новая карьера начинается для вас с того, что вы решаете во что бы то ни стало поссорить Турусину с Курчаевым. И в этом вы можете довериться только матери.
— Я должен сказать, что это не первый шаг, — уточнил Товстоногов. — Я уже нанял человека, дал ему деньги, чтобы он привез ко мне на квартиру Мамаева. То обстоятельство, что должен прийти Мамаев, определяет в известной степени мое поведение. Но надо определить сумму предлагаемых обстоятельств. Я совершил первый шаг — написал письмо. Я сделал еще два шага — пригласил Мамаева (я знаю, как ему понравиться) и подкупил Манефу. Достаточно этого, чтобы начать репетировать?
— Да, здесь есть такие жизненные вещи, что можно уже начать репетировать, — был ответ.
— Что я конкретно должен сделать?
— Вам надо скорее покончить с этими письмами. Задача — убедить мать писать их.
Она их уже писала.
Но она это прекратила.
Почему?
Она боится, что все раскроется.
— Откуда вы взяли, что она боится? Может быть, она не хочет этого делать по другим причинам?
— Да, она считает это непорядочным.
— Но почему она не хочет писать именно это письмо, когда пять писем уже написала?
Она не верит в это предприятие.
Она не хочет ничего делать вслепую?
Да. Она хочет, чтобы сын раскрыл ей карты.
— Мы пока разобрали обстоятельства, причины, по которым она писала письма и сегодня перестала писать. Она перестала писать, потому что решила или понять, во имя чего она это делает, или не писать совсем. Она вышла из повиновения, «взбунтовалась». Но нам рано еще переходить к действию, у нас нет основы. Нам надо определить и другие обстоятельства. Значит, именно в тот момент, когда должен прийти Мамаев, она взбунтовалась — это очень важно. Можно было бы остановиться и на этом, но это не главное, потому что этого сыграть нельзя. Это только — важная предпосылка. Так как же решать эту сцену?
Снова — пауза.
— Удивительная вещь, — продолжал Товстоногов. — Оттого, что режиссер и актеры знают, что будет дальше, они пропускают иногда самое главное. Вот мы пропустили предстоящий приход Мамаева, а это обстоятельство важнейшее. То, что Глумов может сорваться на каждом шагу, что все задуманное им страшно рискованно, — все это как будто лежит на поверхности, и тем не менее мы проходим мимо того, что чрезвычайно важно. Итак, что же важно в данной сцене?
Глумову нужен сознательный союзник, поэтому он посвящает мать в свои планы.
Он вынужден ее посвятить, потому что она «взбунтовалась», — уточнил Товстоногов. — Но ведите меня к тому моменту, с которого я могу начать действовать. Общие обстоятельства мы оговорили, теперь переходите к тому конкретному, с чего начинается моя жизнь.
— Глумову нужно обеспечить тылы…
Нельзя сыграть «обеспечить тылы». Давайте определим то, что можно играть.
Может быть, еще раз прочитать сцену, чтобы найти окончательное решение, — предложил режиссер.
Мы еще и приблизительно не нашли. Прочтем еще раз. Прочитали.
Сколько здесь кусков? — спросил Товстоногов.
Два, три, — раздались неуверенные голоса.
— Тут три куска, — согласился Товстоногов. — Первый кусок — разговор с матерью, второй — когда Глумов ей открывается, третий — после ухода матери. Можно начать репетировать? — И, снова включившись в игру в качестве исполнителя роли Глумова, спросил: — Разрешите начать?
— Нет, — остановил его режиссер. — Мне кажется, очень важно для этой сцены, что затевается грандиозная авантюра, и очень рискованная.
— Да, это очень важно.
У Глумова нет времени, чтобы заниматься разговорами, ему нужно убедить мать.
Значит, по действию я должен ее убедить? — спросил Товстоногов. — Все, что вы рассказываете, очень полезно, но я, артист, хочу начать действовать. Что я должен делать?
— Вы должны ликвидировать конфликт, успокоить ее.
— Но это все есть в словах, а что мне делать как исполнителю? — настаивал Товстоногов.
На этот раз в разговор включились решительно все присутствующие. Режиссеры начали высказывать свои предположения по поводу данной сцены. Одни — короче, другие — очень длинно, и все по-разному.
— Видите, в какой отвлеченной сфере вы существуете, — сказал Товстоногов, когда все желающие высказались. — То, что вы говорили, образец очень толкового литературного анализа. А ведь в главном — как же мне действовать — вы меня оставили беспомощным. Вы чувствуете разницу между привычным методом работы и тем, что открыл Станиславский? Весь застольный период практически ничего актеру не дает по линии того, как это сделать. Можно месяцами сидеть за столом и анализировать текст, оговаривая все мелочи, детали, подробности…
— Я оговорю все в пять минут, — возразил один из режиссеров. И тут же изложил свое понимание образа Глумова, изложил очень подробно и многословно.
— А я могу вам возразить, я с вами не согласен, — парировал Товстоногов и тоже изложил стройную, логически обоснованную концепцию, прямо противоположную по смыслу той, которую выстроил режиссер, но столь же убедительную. — Вот вам и предмет на месячную дискуссию. Я просто показал сейчас, как можно на эту тему умозрительно и отвлеченно спорить. Подобная аналитическая работа не помогает актеру, и меня она художественно, творчески ни на йоту не приблизила к процессу, который я должен сейчас совершать. Что происходит при такой репетиции в актере? Он может сказать: «Давайте попробуем. Режиссер очень умный, все правильно понимает, наверное, потом он мне поможет, когда я практически буду что-то делать, но пока я про себя ничего не знаю». И он начинает стихийно что-то пробовать, надеясь, что потом найдется то, что необходимо. Вы разобрали сферу интеллектуального по отношению к данному образу, а вы должны нагрузить не только мою голову, мой мозг, но и мой физический аппарат. Я должен захотеть что-то сделать. Не просто ходить по сцене и взволнованно произносить текст. Вы должны зарядить меня как Глумова, а не нагрузить сведениями о Глумове. Мне надо заполнить брешь между представлением интеллектуальным и ощущением чувственным, физическим, психическим. И это — задача режиссера. Сейчас я выйду на сцену — и я гол как сокол. А где мост от вашего рассказа к импульсу действовать физически? Что будет после ваших слов толчком к действию? Вы задали мне это? Нет.
Ознакомительная версия.