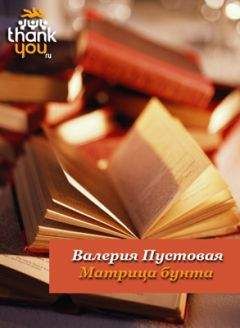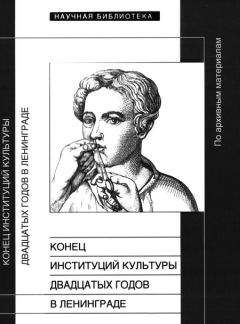Тут особенно интересно: что остается от метасюжета, когда заработала сюжетность повествования? Взаимодействие мира и антимира создает в позднейшей прозе Осокина напряжение профанного и сакрального. Сюжет такого произведения становится своеобразной динамической фигурой, создающей у читателя ощущение причастности к инореальности. «Перечень» трансформируется в череду действий, не связанных логически: связь устанавливается по магическим законам антимира. Поездка старшего жреца за новой обувью вызывает цепь бытовых чудачеств его односельчан, декабрьское ритуальное уединение то и дело прерывается непрошеными встречами, покупка птичек овсянок предвещает путешествие… На последнем сюжете нужно остановиться особо.
«Овсянки», как никакой другой текст Осокина, показывает природу мифосознания — его опору на сакральное в трактовке блага и худа, преступления и правила. Текст — его можно было бы назвать повестью — интересен тем, как он может быть прочитан в рамках параллельных мифосистем. Ядро сюжета — ритуал похорон в малочисленной народности меря — принадлежит глубокой архаике. Порядок его проведения магичен, а результат освящен древним верованием. Не подготовленный этими соображениями читатель может быть этой архаикой веры шокирован.
Рассказчик помогает другу сжечь, по местному обряду, тело его умершей жены. По дороге образ умершей «оживает» в самых интимных подробностях ее семейной жизни, после обряда погребения герои проводят ночь с проститутками. Их затянувшееся похоронное путешествие заканчивается автокатастрофой: машина падает в реку. Что видит в этой магичной истории более позднее религиозное, христианское сознание? — цепь нарушений. Траур профанирован в кутеже, безмолвие смерти опошлено в болтовне о заповедном, за преступление сакрального закона герои наказаны внезапной гибелью, к которой даже не успели духовно подготовиться…
Но тут уже шокирован автор. Ибо «Овсянки» — это история о правильном проживании смерти, вознагражденном ее преодолением. Определения сакрального и святотатственного задаются мифом, устроенным принципиально иначе, чем та этика, которую мы пытаемся призвать на головы персонажей. Местные обряды поминания («дым», предвещание погребального огня) и погребения («дымить теперь не имело смысла. ведь дымом мы пропитались насквозь. впервые мы закурили», — играет с фольклорным словом автор) сопряжены с переживанием границы. Эротическое наполнение поминания в этом смысле обозначает еще-присутствие мертвого среди живых. После ритуала сожжения: «запах керосина самурайской саблей рубанул воздух и разорвал все наши связи с танюшей», — «дымить», обозначая еще-присутствие, невозможно. Ночь отпаивания весельем замыкает обряд, возвращая живых живому, восстанавливая непроницаемость границы. И вот поскольку обряд был исполнен героями правильно, провожающие мертвого за пределы живого получают благословение: тонут в реке.
«Мы не верим в жизнь после смерти. и только утонувшие продолжают жить — в воде и вблизи от берега. только лучше тонуть в реке — чтобы не сидеть как скучный карп в глухом озере <…> вода — сама жизнь. и утонуть — значит в ней задохнуться: одновременно от радости нежности и тоски. утонувшего если найдут — не сжигают — а привязывают груз и опускают обратно в воду. вода заменит его тело на новое, гибкое, способное к превращениям. только утонувшие могут встречаться друг с другом». Этот речной полюс сакрального оправдывает и высокое значение внезапности катастрофы — обрести речное бессмертие своей волей нельзя: «нельзя утопиться. меряне не топятся. это нескромно. это по-русски чересчур. как мчаться в рай обгоняя всех. от русских святых катерин в волге не протолкнуться. чопорные дуры. река сама отберет для себя людей. вода — суд наивысший». Герои могли только просить о такой милости — что и сделали: уезжая с места погребения, загадали о бессмертии сопутствовавшим им овсянкам.
«Тополиная литература не ради мистики — ради вдумчивого волшебства», — подчеркивает Осокин. «Овсянки» рассказывают о чуде, а чудо в мифе, если вспомнить Лосева[109], есть подтверждение законов реальности, выявление ее существа.
Цивилизация, избалованная убавлением ночи, утратила живое чувство горизонтов существования. Истощение сакрального привело к упадку жизненной силы и оскудению представлений о предельных основаниях человечности. Обращение литераторов к сказочной и мифологической архаике сродни реальным погружениям горожан в дичь природы: цивилизованный человек отправляется в темный лес, взбадривая себя ситуацией пограничья между миром повседневным и миром незнаемым.
Страх леса, когда-то породивший сказочное волшебство, — это осознание жизни как испытания. Жизнь и есть — темный лес при границе между суетой и вечностью, страданием и радостью, утратами и благом. Человек, как заблудившийся в сказке ребенок, горюет — бессознательно ли, осознанно ли — о своей оставленности в чаще мира. Сюда, в эту дремучую чащу, послан он, чтобы пройти жизнь, как обряд посвящения, и в конце пути вернуться в место отправления. Вернуться инициированным — искусом реальности. Добыв дар, отважившись на поединок, испытав свою силу — начав сказку с начала.
Давным-давно у нашего порога жил-был лес.
(Опубликовано в журнале «Новый мир». 2009. № 3. Печатается в дополненном и исправленном варианте)
Серый мутированный гот с глазами писателя
Виктор Ерофеев
«Серый» — это код. Разоблачение тайны, вскрытие комплексующего и вожделеющего «Оно», одушевление тени. В своем романе «Энциклопедия русской души» Виктор Ерофеев предложил разгадку всех бед России: Серый. Не то резонерствующий персонаж, не то судимый демон, не то обычный «русский мужик», типаж из анекдотов. Найти и обезвредить — такую, вполне триллерную, задачу ставит Ерофеев перед своим героем. Вот убьют они Серого, палача и революционера, бродягу и пьяницу, подминающего нашу страну под свое подобие, — и славься, отечество наше свободное.
Охота на ведьм — многообещающий сюжет. Для романа, и для критической статьи.
Пока писатель Виктор Ерофеев охотится за метафизическим героем по кличке «Серый» — колдовским врагом русской жизни, — я прицеливаюсь в самого Ерофеева — колдовского врага русской литературы. Возведем его на черный пьедестал позора и примем всерьез. Представим, что, подобно тому как после гибели Серого начинается на Руси праздник живота (смотри ерофеевскую «Энциклопедию русской души»), так и после свержения Ерофеева с постамента славы (успеха, шума и тиражей) русская словесность объявит именины сердца и на радостях тако-ое откаблучит…
Ибо не возлюбил он много, и за то ему не простится.
А не возлюбил он, граждане присяжные заседатели все, что дорого и мило душе истинно-русской (-духовной, — просвещенной, — добродетельной). И о том, не стесняясь, дает показания в каждом своем произведении, демонстрируя себя человеком как бы противоположной души.
Как бы?..
Виктор Ерофеев живет по не принятым — не приятным у нас (в стране, словесности, менталитете) — законам. Ему предъявимы обвинения в заигрывании с жесткой эротикой и садизмом, в попрании основ и символов русской культуры, в ополчении на духовность, в богохульстве.
А также в банальности мышления, бедности слова, автоплагиате и бесхудожественности.
Ерофеев дерзок — и тривиален. А сегодня это стопроцентная гарантия успеха.
И если вы захотите увидеть, как расходится земная слава, пройдите вслед за мной вот к этой полке в одном из центральных книжных магазинов, целиком заставленной гладко-блестящими, стильно оформленными книгами издательства «Зебра Е». «Энциклопедия русской души», «Страшный суд», «Русская красавица», «Роскошь», «Бог Х», сборники ранних рассказов и «Лабиринты» статей — полное собрсоч! Но вместо заголовка на всю обложку и строгой нумерации томов на переплете красуются серийная буква Е и сам автор, то ноздреватым демоном выглядывающий из-под нимба ангела с русской иконы, то головой закрывающий солнце, то плывущий в розовой водице со следами бурной ночи на многомудром лице.
Осудить легче, но понять интереснее. Что такое Виктор Ерофеев в русской жизни? Масштаб вопроса можно не занижать: что бы ни говорили о Ерофееве как писателе (и я скажу — несколько страниц терпения), его мировоззренческую позицию нельзя игнорировать. Ерофеев талантлив как публицист. В этом смысле он — явление скорее злободневное, чем злокачественное. И вполне достоин исследования.
Виктор Ерофеев — контр-эго русской души.