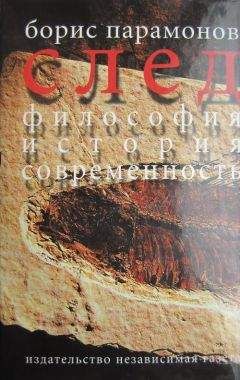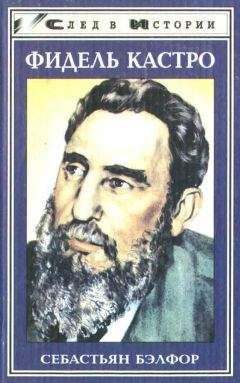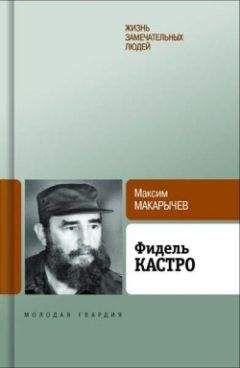Вот чему учит Достоевский, вот что нужно из него извлекать: ясное сознание того, что за всеми страданиями исторической и частной жизни не идеология стоит и не буква веры, не политические конфликты и не метафизические концепты — а страшная человеческая душа. Это знание, добытое самим Достоевским, его же и пугало. Современный просвещенный человек научился с этим жить. Он не стал лучше, но он стал опытнее, умудреннее, больше понимает самого себя. И свои идеологии он стал лучше понимать: увидел в них мотивировку собственных деструктивных стремлений. Если современного человека что-то делает лучше его предшественников, то это именно безыдейность. Свои проблемы он научился понимать, не списывая их ни на турок, ни на славян.
Апрель 1993
Солженицын о постмодернизме
В выступлении Солженицына при вручении ему премии Национального клуба искусств в Нью-Йорке (январь 1993) говорилось, что прежнее классическое искусство было ориентировано на воспроизведение неких вечных структур бытия, любовно воссоздавало Божий мир, а нынешний, XX века, авангард, провозгласив целью искусства исключительно самовыражение художника, тем самым как бы способствует иссякновению бытия, вырывает его корни; в России, например, авангардное искусство просто-напросто было проектом большевистской революции: сначала постарались уничтожить, дискредитировать великое искусство, а потом и за жизнь принялись, за искоренение ее. Все это мог бы сказать и не Солженицын, а любой эстетический старовер, вроде Ренаты Гальцевой. В случае Солженицына не мысли были интересны, а слова, индивидуальный стиль — выражения вроде «операция этого вышвыра» или «опрокид всех нравственных ценностей». (Интересно, что в другой своей речи, в Лихтенштейне, он употребил выражение «неадекватные флуктуации».)
Солженицын начал свое нью-йоркское выступление с цитаты: стиль — это человек. Тем более верно это о писателе: писатель — это стиль. Вот тут-то и коренится проблема — не только авангарда, но искусства вообще. Авангард тем и значителен, что он, в частности, поднял эту проблему; а уж нынешний постмодернизм, о котором тоже говорит Солженицын, только этой проблемой и живет. Обозначим ее, эту проблему — проблему стиля: подлинно ли он необходим в искусстве? Стиль по определению — искажение бытия, подмена его эстетической иллюзией. И должно ли искусство самоуспокаиваться в подобного рода деятельности? Не может ли оно выйти за рамки стиля? Хотя бы для того, чтобы дать новое и более точное представление о реальности?
Сказанное отнюдь не относится к проблеме так называемого реализма. Это старая тема мирового романтизма. Романтики, немецкие в особенности, были людьми, остро чувствовавшими метафизику искусства, философскую, мировоззренческую проблему, с ним связанную. Корень и главный пункт романтического понимания искусства — это представление о нем как о способе игрового моделирования бытия. Художественное произведение, отвечающее критериям искусства, и есть такая модель. Речь здесь идет отнюдь не о так называемом реализме: отражает ли искусство жизнь, или, выражаясь более пышно, бытие? В том-то и дело, что, согласно романтикам, оно и не может ничего отражать, потому что являет собой некую целостность; целое, по определению, ничего не содержит вне себя и, значит, не может что-либо отражать. Строго говоря, нельзя даже говорить «по определению», потому что в целостности нет определений, нет внешних границ, — а есть самодовлеющая внутренняя структурность. Итак, искусство ничего не отражает и ни о чем не говорит, в искусстве нет понятия внеположной темы, не бывает искусства о чем-нибудь, тема в искусстве иллюзорна, или, как предпочитали говорить романтики, иронична. Произведение искусства — это модель бытийной целостности, оно воспроизводит внутреннюю структуру мира. Другими словами, искусство формально: что и доказывали новые романтики — русские формалисты.
Но тут возникает следующий вопрос — самими романтиками поставленный: а что являет истину бытия: упорядоченный космос или первозданный хаос? Вот с этого вопроса, собственно, и начался романтизм как принцип, противопоставленный классике, классицизму. Ибо последний будет говорить о строе и ладе бытия и в них видеть последнюю истину мироздания; для романтизма же первостепенным, первичным — даже и в ценностном отношении, не только в бытийно-онтологическом, — будет хаос, всеоживляющая творческая энергия. Это начало свободы. Мир нельзя до конца моделировать и структурировать, это, как мы можем догадываться, даже не входит в замысел Бога о мире. И свобода человека возможна потому, что мир до конца не упорядочен, в нем нет единой формулы организации. В мире нет единой истины — вот что это значит метафизически.
А единая истина — непременный атрибут всех размышлений Солженицына: он исходит из этой, и только этой, предпосылки — о существовании оной. Таким образом, мировоззренчески Солженицын классик, а не романтик. А в качестве классика он, конечно же, не должен любить авангарда.
И в связи с этим можно снова вспомнить о стиле. Стиль — это человек, говорят нам классики Бюффон и Солженицын. Но что делать, если сам человек исчезает — как некая строго структурированная сущность, единый носитель определенного набора свойств, онтологическая реальность? А ведь он исчезает именно в таком качестве, в таких качествах, даже можно сказать — исчезает как качество. Качество, на философском языке, — это определенность. А определенности и нет, есть некое нефиксированное бывание. Так человека начали понимать еще в XVIII столетии — английские эмпирики из школы Локка. И эта линия понимания непрерывно возрастала. В современном знании человек не существует как фиксированная определенность, он, так сказать, растворяется в мировых туманах, и если что-то моделирует, то не космос, а хаос. Человек подвергся распаду, как атом, он давно уже проходит тот же процесс, что и весь наш материальный мир: превращается из материи в энергию. Он давно уже стал беззаконной кометой в кругу расчисленных светил. Мы углубились в человека, как в ту же материю на микроуровне, — и в обоих случаях убедились, что нет твердых законов, управляющих этим миром, где, по слухам, даже принцип причинности не действует. Солженицын, критикующий авангардизм, сильно напоминает Ленина, критиковавшего «ревизионистов» за то, что у них материя растворилась в энергии.
И современное искусство лишь по-своему, на своем языке выражает этот всеобщий процесс распада и исчезновения статуарных моделей бытия, абсолютных качеств, неизменных идей или скульптурно выявленных ликов, как сказал бы платоник Лосев. Отсюда и идет стилистическая эклектика так называемого постмодернизма. Лучшее пропедевтическое чтение для понимания нового искусства — небольшая книжка Бердяева «Кризис искусства», вышедшая еще в России в памятном 1917 году. Этот кризис проанализирован Бердяевым на примерах творчества Пикассо и Андрея Белого. Мы можем вспомнить еще один представительный пример, не известный Бердяеву в то время, — Джойса с его Улиссом. Зачем Джойсу понадобилось из скромного дублинского страхового агента делать мифического героя, Одиссея, претерпевающего за одну ночь в Дублине все приключения и страсти хитроумного царя Итаки? Чтобы показать бесконечную углубленность человека, несовпадение его с самим собой, вот эту растворенность его в мировых туманах, в премирном хаосе. И между прочим, именно поэтому Джойс сделал своего Улисса евреем: еврей — это человек, не имеющий четкой социально-культурной фиксации, исторически и культурно не прикрепленный. Но таков и всякий человек, говорит нам Джойс, надевая на Блума маску мифического героя, по-нынешнему говоря, превращая его в архетип. И еще: сколько стилей в «Улиссе»? Сколько и глав: восемнадцать.
Можно не любить авангард и мир, его породивший; можно испытывать вполне понятную ностальгию по временам устойчивого бытия и фиксированной социальной иерархии. Лично я такую ностальгию испытываю постоянно, особенно когда читаю книги о старой Англии. Вот недавно прочитал роман английского писателя японского происхождения Каджуо Исигуро «Остаток дня». Его герой — английский слуга. Это высококультурный тип человека, это, лучше сказать, культурное достижение Англии, высокоценная качественная структура. Роман — не о чертах рабской психологии, как можно подумать, а о гибели качеств в современном мире количеств. Верный раб, если на то пошло, — это не хам. Савельич и Фирс не хамы, да и не рабы, строго говоря. Вот на этом, пожалуй, и сойдемся: роман Исигуро — это английский аналог «Вишневого сада». Конечно, в мире с такими слугами приятней было жить, чем толкаться в грязном нью-йоркском сабвее (и если, натурально, такие слуги у вас были). Но можно ли винить кого-то персонально в том, что этот мир исчез? Можно ли кому-то — тем более художникам, людям созерцательного сознания, — вменять в моральную, а то и уголовную вину то, что распались традиционные социальные структуры? А ведь Солженицын именно такое вменение делает русскому авангарду — как будто Маяковский и Ленин в самом деле одно и то же. Виноват ли, скажем, Андрей Белый в том, что строго упорядоченный мир Ньютона сменил релятивизм Эйнштейна, а он, Андрей Белый, каким-то звериным инстинктом это почуял еще до Эйнштейна? Образ мира вообще всегда меняется сразу во многих сознаниях, в этом одна из загадок культуры. Можно подать в суд на Ленина (чем и занялись недавно в России), но можно ли судить какого-нибудь Гейзенберга за то, что он не обнаружил в микромире действия закона причинности? Тут вспоминается острота из «Записных книжек» Ильфа: этот человек не советской властью недоволен, а мирозданием. Солженицын приемы борьбы с большевиками перенес на борьбу с мирозданием; по крайней мере с мировоззрением.